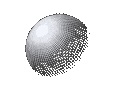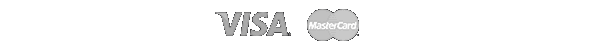Метафизика Антонена АртоМоя тема — очень трудная, потому что приходится говорить об очень сложных вещах и в то же время очень простых. И надо выбирать простой язык, когда речь идет о вещах сложных, окутанных уже в бесчисленные и утонченные культурные ассоциации, образы. Есть определенная традиция, в весьма драматических красках изображающая так называемое модерное искусство, к которому, безусловно, относится Арто. И я сегодня буду говорить о театре Арто и метафизике Арто. Я не специалист по театру, а что касается метафизики, то никто не может сказать о себе, что он специалист в метафизике, даже если всю жизнь ею занимался. Может быть, понятней будет, если я поясню, где и почему я встретился с Антоненом Арто как философ. Встретился я с ним в той вещи, которая сегодня всеми испытывается очень остро, а именно положение мыслителя в современной культуре. Под мыслью я понимаю любую форму или любое состояние понимания человеком чего бы то ни было и исполнение им самого себя, или реализацию человеком самого себя, в том, что он понял, то есть под мыслью я имею в виду такое состояние, в котором мы, во-первых, чувствуем и знаем себя живыми, во-вторых, чувствуем, что мы осуществились во всей полноте наших сил и потенций. Вот это я буду называть мыслью. Следовательно я не отличаю мысль от образа, от чувственности, или чувства, и так далее. Фактически тем самым я говорю очень странную вещь: мысль — это что-то, что невозможно. Поясню это так. Была такой философ и религиозный мыслитель во Франции — Симона Вайль, которая пережила драму, сходную с драмой Арто. И стержнем переживания этой драмы было то, что она назвала невозможностью жизни. По-философски это можно выразить так: жизнь как таковая, жизнь в чистом виде, есть что-то невозможное, или это есть некоторая возможная невозможность, жизнь, предполагающая, что в ту секунду, в которую ты живешь, ты живешь всеми частями своего существа; что все вокруг тебя, все вещи и события, где есть, закрепились какие-то крошечки, частички твоей души, с которыми ты хочешь соединиться, – все это должно сойтись, быть, как говорил Монтень, a propos, то есть быть кстати. Мы ведь знаем, что, например, можно быть умным некстати, можно любить то, что достойно любви и тебя должны были бы любить, но все некстати, в неподходящий момент – встал с утра с левой ноги. Две родные части, по какой-то траектории устремленные друг к другу, прошли мимо друг друга и не узнали, а должны были бы узнать. Иными словами, каждый раз необходимо какое-то должное соединение, такое, чтобы через эти точки, которые встретились, прошел бы ток жизни, чтобы в одной точке чувствовать себя живым и в следующей точке тоже чувствовать себя живым. Но для этого должен пройти ток, должно все сойтись. Греки не случайно в каждую свою трагедию вводили какой-то кульминационный пункт, который можно обозначить так: в нем в конце концов все сходится, но все сходится тогда, когда герой умирает. Он своей смертью сводит все смыслы, которые должны были бы сойтись: должный смысл всего, что есть вокруг, осуществляется, а герой умирает. Но мертвый уже не может обладать тем смыслом, который свершился, то есть полностью есть и реализовался в знании. Смерть дает такую конечную очевидность, которой в то же время мы не можем владеть и тем более поделиться с другими, ибо нет никакой обратной связи. Мы не можем войти обратно в жизнь, будучи полностью, казалось бы, живыми. Это Симона Вайль и ощутила как то, что она назвала невозможностью жизни. В действительности жизнь есть невозможная вещь, если под жизнью понимать то, что я сейчас говорил, – она возможная невозможность. И нечто, что таким образом я описывал, прилагая это к жизни, так же трудно и по отношению к мысли. Мысль тоже есть что-то, что является возможной невозможностью или невозможной возможностью. Тогда, когда у нас есть случай — греки называли это кайросом, — он каким-то очень легким прикосновением проходит мимо нас, и мы именно тогда, когда он нас зовет и мимо нас проходит, перед лицом этого случая – не в полноте своих жизненных сил. В принципе мы что-то умеем, но тогда, когда это нужно, мы – без нашего умения. Это, я бы сказал, проблема размещения человеческой души в некотором пространстве и времени. Она очень похожа на обыденные случаи, которые с нами бывают. Например, у меня достаточно сил и мускулов, кроме моей любви к другу и желания его спасти, чтобы, протянув руку, вытащить его из ямы. Но почему-то, каким-то стечением обстоятельств я оказываюсь в такой точке, из которой не могу протянуть руку: я не на один метр от моего друга, а на пять метров от него. И могу спасти его и не могу. Эта ситуация подобна, скажем, описанной Прустом как неудачное свидание с самим собой, испытывающим самые любовные чувства (он часто эту ситуацию описывал, и в литературе это описано). Именно тогда, например, когда ты полон любви к другому человеку, хотя бы к своим родителям, и в этот момент полностью этой любовью владеешь и ее чувствуешь, хочешь ее передать, отец или мать в это время в другом месте, или из-за усталости или забот твоя бескорыстная любовь разбивается о стенку и не доходит до них. Мопассан описывал самый точный или надежный случай, как можно любую любовь разрушить, – это когда у мужа на руках поленья дров, он сгибается под их тяжестью перед камином, чтобы зажечь его, и в это время жена бросается к нему, вешается на шею с объятиями и объяснениями в любви. Конечно, в ответ на такую любовь может возникнуть только раздражение и ненависть. Вот эти-то ситуации прохождения и непрохождения и человеческая способность или неспособность быть a propos (быть кстати) и есть трудность жизни в том случае, о котором я говорил, а у Арто она испытывалась как трудность мысли; более того, это всеобщее свойство мысли (я ведь даже пример из греческой трагедии приводил). Но бывают такие социальные, культурные ситуации, когда для некоторых чувствительных душ аналогичная трудность удесятеряется и обостряется. Такие души можно было бы назвать мучениками мысли или мучениками духа. В конце XIX и в XX веке таких было несколько. В каком-то смысле Арто можно поставить в один ряд с Ницше — это в европейской культуре, а в русской культуре, более близкой нам, Достоевский, очевидно, был таким мучеником исполнения мысли. Оказалось (и всю проблему к этому можно свести), то, что мы мыслим, не само собой разумеется. Нам всегда кажется, что раз у нас есть такая психическая функция, то ее реализация состоит просто в ее упражнении: у одних она развита, у других нет, одни умные, другие глупые. И достаточно просто иметь терпение и время сесть хотя бы за стол или задуматься, и начинается процесс мысли. Между тем, для того чтобы была мысль, существуют какие-то скрытые предпосылки, скрытые условия, которые должны быть выполнены. Они не само собой разумеющееся, так же как не само собой разумеется, что дважды два – четыре. Дважды два – четыре — это аналитическая истина, но есть дважды два – четыре как содержание, получаемое по связи терминов, а есть дважды два – четыре как акт мысли, который, оказывается, очень трудно совершить (я имею в виду думать так, чтобы мыслилось все время дважды два – четыре). Человек почти не способен на такую операцию, на такое мышление. У Арто за этим стояло чудовищное физическое испытание, и поэтому, собственно, он, наверное, обращался к театру. Сначала поясню две вещи. Я сказал «чудовищное физическое испытание» и сказал «театр». Например, я сейчас перед вами и рассказываю о том, что мне близко, что мною переживалось и что я пытаюсь передать, не употребляя никаких специальных философских терминов, не пользуясь философским аппаратом. То, о чем я говорю, можно описать в терминах тождества бытия и мышления, в терминах субстанции, в терминах субъекта, ввести декартовский принцип cogito ergo sum, ввести онтологическое доказательство существования Божьего как гарантию нашего мышления, то есть гарантию того, что мы можем осуществить тот трудный акт мысли, о котором я говорил, и так далее. Но я ничего этого не делаю, а пытаюсь просто взять тот непосредственный, изначальный смысл, из которого исходят философские понятия, но в которых этот смысл очень часто теряется для непосвященного человека, не имеющего тренировки в оперировании этим аппаратом. Значит я беру простейший опыт, то, что мне близко, и не покрываю его никакими специальными понятиями. Но перед вами в моем лице случай, очень отличный от случая Арто. Я переживаю это, но переживаю все-таки в актах мысли, а Арто переживал это на актах своего телесного существования. То, что для меня предмет размышления, пускай даже самого интенсивного и наполненного жизненным чувственным опытом, для Арто было событием его собственного тела. И он воспринимал возможную и невозможную мысль (я ведь назвал мысль возможной невозможностью – могло бы быть или должно было бы быть, но нет, невозможно, разве что каким-то чудом) как существование или несуществование каких-то коагуляций в своей собственной психике, в своем собственном физически натуральном состоянии. И это просто раздирало его психическое и физическое тело, и в этом смысле он как бы мученик мысли. И то, что я могу испытывать на поставленных мною мысленных экспериментах, которые, в общем-то, никакими болезнями в моем теле не откладываются, Арто проделывал всем телом, мыслью и чувством (так он был устроен); это как тело без кожи, полностью обнаженное для ударов окружающего мира, для любых впечатлений (представьте себе – все время жить с содранной кожей). Вот так жил Арто. Кстати так же жил и Ницше. В одном из писем своему корреспонденту он написал очень интересную фразу и сделал интересную подпись. Они позволят мне перейти к другой стороне дела — к вопросу о театре (почему именно театр). Он пишет человеку, который, очевидно, обратился к нему с письмом, или состоялся какой-то разговор перед этим, в котором было что-то сказано, и тот наконец-то понял Ницше и тем самым приобрел: «Вы наконец-то нашли меня, теперь вся проблема состоит в том, чтобы меня потерять» (пока вы меня нашли, обрели, а еще нужно меня потерять), и подписался — Der Gekreuzigte, что означает «распятый». Появляется образ крестовой муки, распятия на мысли или на том, что могло бы быть мыслью; распятый на том, что могло бы быть, если бы было а рrороs, то есть кстати (но «кстати» — это плохой перевод, лучше брать а рrороs), однако, не было а рrороs. Нет, не сошлось, закружился мир так, что все точки, которые должны были бы сойтись, оказались на недостижимых в данный момент расстояниях и временны́́х отдалениях, недостижимых для тех сил, которыми мы располагаем. Или вещи разбросаны, неполны; к примеру, нам нужно пять частей вещи, для того чтобы что-то соединилось, а их налицо только четыре. Но даже если и все пять, мы должны быть еще при полноте наших сил в данный момент, в момент кайроса, а мы забыли, что знали или что могли; в этот момент, когда нужно, не помним, не знаем. Это, так сказать, крестовая мука. И здесь есть один очень интересный момент. Ницше говорил своему корреспонденту : ты нашел меня, но теперь задача меня потерять. (Меня заносит далеко, у меня тоже, может быть, процесс мысли переходит в физически неконтролируемое событие моего собственного тела, как это происходило и у Арто.) Следовательно то, о чем мы говорим (мысль, или состояние понимания), мало того что это возможная невозможность, это еще и – даже если в конце концов все сошлось, а в конце концов все сходится, – фигура греческого трагического героя, то есть символ того, что в конце все сходится, но даже сошедшееся нельзя иметь в том смысле, что это нельзя, раз получив, положить в карман и тем самым иметь и потом, когда тебе надо, по надобности, к этому снова обращаться (положим, я что-то знаю и значит имею: завтра мне понадобилось, я оглянулся или залез рукой в карман и вынул — вот я знаю). Как стало очевидным, те состояния, которые мы называем мыслью, они, даже если есть, не поддаются владению или удержанию, то есть они обладают следующим признаком: в них нужно каждый раз снова впадать. Слово «впадать» здесь применено в смысле «впадать в ересь», как Пастернак в стихотворном обороте говорил: «Впадать, как в ересь, в неслыханную простоту» (1). Теперь о театре. Давайте совершим очень простой акт рефлексии как простой мыслительный акт (а Арто на своем собственном теле его совершал). Что происходит в театре? Что такое театр? Я не вторгаюсь в вашу область (если тут есть театроведы) и не собираюсь дать дефиницию, просто попытаюсь выразить какой-то мой личный опыт общения с театром, но тот, который есть не только у меня. Существует пьеса, в ней написаны все слова, произносимые на сцене, но, может быть, режиссер добавил еще какие-то слова, или, наоборот, сократил. Пьесы Шекспира не ставятся как правило в полном объеме шекспировского текста, но все равно то, что ставится, – это написано, и мы знаем это. Зачем нужно еще показывать? Зачем слово, которое мы можем прочитать, нужно еще и произносить (с ужимками актера к тому же)? Зачем все это? Странность того, что вообще спектакли ставятся, можно понять только так — мы играем в театр, театр есть физическая машина, посредством которой мы снова впадаем в то, что знаем, но чего знать нельзя в смысле владения. Ибо театр восстанавливает смысл, или понимание, потенциально содержащиеся в словах и жестах, в пространственных расположениях фигур на сцене, которые могут быть заданы заранее, но именно сейчас, в данный момент, физически производимый уникальный эффект способен сделать так, чтобы мы снова впали в то, что как будто бы знали раньше. Потому что то, что знали, нельзя знать в смысле «знать и положить в карман», владеть, или обладать этим как константой своей мыслительной способности или способности восприятия, к которой мы надежным образом могли бы в любое время произвольно обращаться. Таким образом, речь идет о чем-то, что мы не можем произвольным усилием или произвольной экзерсицией делать: захотел, произвольно сконцентрировал волю и внимание и сделал. Нет, нужна еще целая специальная организация пространства и культурного времени, звуков, света, чтобы случилось то, что, казалось бы, должен был просто знать, читая текст пьесы, случилось на данный момент и в данный же момент умерло. Известно, что театральные спектакли живут очень ограниченной жизнью. Живут и умирают. Что же умирает? Умирает та комбинация многочисленных вещей, которая способна своим мгновенным здесь-и-теперь-действием, то есть здешним, присутствующим действием, совершить впадение моей души в понимание. Следовательно, понимание не содержится аналитически в значении слов или мыслей, одетых в словесную оболочку. Оказывается, читая и слыша слова, мы не имеем мыслей – вот в чем драма. Сами по себе значения всех наших письменных и звуковых записей не содержат состояний понимания и мысли, поэтому, собственно, становятся необходимыми изображения изображений. Вы берете какой-либо текст, какую-нибудь фразу того же самого Арто или вы слышите реплику, произнесенную со сцены, и прекрасно знаете, что возможно следующее. Вы можете повторить эту фразу; скажем, герой сказал то-то, вы повторяете и тем самым, казалось бы, говорите то же самое, что сказал он, и как будто понимаете. В действительности же это чистая механика, автоматика, потому что если вы поняли в действительности, то не можете в принципе повторить то, что было сказано, – то, что вы скажете про себя как воспринятое извне, будет всегда ново, всегда другое. Значит нельзя помыслить то, что есть, не помыслив это иначе, – это абсолютный закон нашей духовной жизни. Ведь этим человек отличается от попугая. Пожалуйста, попугай может повторить фразу. Казалось бы, он сказал, повторил то же самое, что было сказано, но это попугай, это механика. Вот что было проблемой Арто. И я сказал, что он ее пытался разрешить прежде всего в театре. Почему в театре? Я скажу очень парадоксальную вещь и тем самым закончу мою попытку псевдоопределения театра. Итак, мы установили следующее: мы что-то понимаем, видим не путем переноса в нашу голову содержаний и значений письменного текста или устной речи, а лишь при условии, что в нас произошел какой-то новый сознательный опыт, опыт сознания как такового, в котором родилось что-то, что есть то, что было, что уже сказано, но это должно родиться, чтобы быть понятым (это парадокс). Я перед вами в качестве иллюстрации своих собственных мыслей: то, что я говорю – я этого не знаю, я снова пытаюсь сейчас знать то, что знал, то есть снова пытаюсь впасть в то, что я знаю, чтобы было понятно, о чем идет речь, чтобы была понятна эта парадоксальная вещь, что лишь родившись в том, что можно назвать некоторым сознательным опытом, нечто может быть тем, что уже есть. В этом опыте имеют место какие-то вещи, которые можно назвать эмердженциями: вспыхивают акты рождения, понимания как рождения, а в родившемся, казалось бы, ничего нового нет, есть то, что думал и говорил Шекспир. Но если случается акт понимания, или мысли, то случается парадоксальное рождение того, что уже есть. И этот сознательный опыт и называется игрой. В случае Арто — это театральная игра, то есть театр есть физическая организация. Поэтому Арто был противником театра диалога, психологического театра, так как прекрасно понимал, что не происходит перехода состояний из уст актера на сцене, из содержания слов, которые он говорит, в голову, в слух сидящего в зале зрителя, что совсем не об этом идет речь. И поэтому дальнейшие психологические изыскания, чисто литературные диалогические ухищрения самого текста пьесы не путь театра. Это ничего не дает. Поэтому иногда в тексте «Театр и его двойник» Арто вдруг неожиданным образом дает театру чисто пространственные определения, словно вся проблема в том, как актеры стоят и двигаются относительно друг друга на сцене, чего мы сразу, конечно, не понимаем. Но здесь имеются в виду те вещи, о которых я говорил, а не простые обыденные значения. Так вот, эта игра — грозная. Арто на себе знал, и мы тоже можем знать, что создание ситуации, в которой может что-то рождаться (а то, что есть, может быть только снова рождаясь), похоже на то, что происходит в грозовой атмосфере, в каком-то медиуме, в какой-то среде, насыщенной электрическими разрядами, силами, которые вообще несовместимы с физическими способностями человеческого существа, опасны для него, могут его разрывать, раздирать его тело, наносить ему кровоточащие раны. Мысль есть нечто рождаемое в грозе, мысль — событие, а не дедуцируемое и логически получаемое содержание. Здесь я совершенно не имею в виду проблему соотношения рационального и иррационального. Все эти различения для нас не имеют никакого смысла, просто я беру и рассматриваю мысль как органическое образование (как это делал Арто и Ницше на себе ощущал). Мысли, очевидно, есть некоторые духовные организмы, распадающиеся и вновь складывающиеся в той ситуации, которую я и называю грозой. Тем самым театр — всегда театр театра. В каком смысле? Я даю парадоксальное определение. Есть классическая фраза, в XVI—XVII веках даже ходовая, – «жизнь есть театр», «жизнь есть игра» (более того – «жизнь есть космос»). Даже на одном из портретов Декарта имеется тому подтверждение: есть один его известный портрет, написанный Хальсом, а другой, менее известный — тоже голландского художника, но менее известного (где у Декарта в отличие от хальсовского портрета довольно мягкое лицо), и там подпись, явно выражающая суть декартовского отношения к миру: mundus est fabula — «мир это сказка» (правда, там не добавлено, что это сказка, рассказываемая идиотом). Mundus est fabula, мир — это сказка. А то, что говорится о мире, если, конечно, что-то дельное, – это сказка сказки, в нашем случае — театр театра. Что это значит? Когда я говорил о невозможности мысли, об этих состояниях, которые нельзя иметь, в которые нужно впадать, и что для этого впадения есть специальные машины, или специальная техника (применительно к Арто такая техника — это театр), то имел в виду следующее: в каждом случае речь идет о разоблачении чего-то в качестве изображения или чего-то как изображающего нечто, что вообще не может быть изображено. Как это сказать? Начнем сначала, попробуем впасть в то, что нельзя иметь формулой. Ведь не существует театра без театральности, не существует такой игры, которая не указывала бы сама на то, что это игра. Очень часто говорят о реализме театра, о том, что актеры что-то изображают, что элемент актерства максимально должен быть стерт, передо мной должно быть то, что он изображает. Это не театр, это все чушь и ерунда. Не существует театра без специальной театральности, без показа того, что то, что есть, — это только актер, изображающий то, что не может быть изображено, что может только быть, что есть, то есть это всегда другое по отношению к изображению. И изображение должно, пытаясь якобы изобразить это, в то же время указывать на самоe себя как лишь изображение того, что нельзя изобразить. Поэтому у Арто всегда lе theatre est son double (2), то есть его другое. И в этом смысле мы все актеры в самой жизни, ведь мы все время что-то изображаем, мы не есть, а то, как мы есть, можно лишь показать изображением изображения, то есть только театром театра; тогда происходит катарсис. Мысль — это то, что невозможно (возможная невозможность), то, что нельзя удержать, нельзя иметь, если случилась (так же как почти что невозможна жизнь как таковаz), в это можно снова новым сознательным опытом впасть, и так бесконечно. Так это же не поддается изображению. Возможна такая культура, в которой может существовать запрет даже на попытку изображения неизобразимого. Как вы знаете, в мусульманской культуре существует запрет на изображение. И тогда парадоксальным образом я утверждаю, что европейский театр есть театр, доказывающий невозможность театра, то есть театральные изображения доказывают невозможность изображения того, о чем мы говорим. Вот это было (так я понимаю) то, что внес Арто, тот опыт, который он внес в театр. Я описываю фактически метафизический театр. Но это не интеллектуальный театр. Чем отличается, скажем, поэзия Арто — поэзия, а не только его театр, — от так называемого интеллектуального театра или интеллектуальной поэзии? У Арто нету интеллектуальных тем. То, что происходит или должно было бы происходить на сцене Арто, — это обычные человеческие страсти: кровь, любовь, убийства, понимание, непонимание друг друга, движения каких-то человеческих астероидов, которые сталкиваются с большим скрежетом между собой. (…) Я сказал, что это как бы прямо с обратной стороны, чем запрет на изображение; допустим, воспрещались изображения Бога, в еврейской культуре, в исламе (в Европе наоборот, казалось бы) запрещены вообще изображения определенного рода . Но интересно, что в смысле мыслительной техники за этим стоит одна и та же идея: есть вообще что-то неизобразимое, и мы в нашем обыденной жизни лишь марионетки чего-то другого. Чтобы показать это, можно устроить театр, театр театра, который позволяет нам впасть (и впадать) по мере самого акта театра сейчас и теперь, а не навсегда, в то, что неизобразимо, чем нельзя владеть и что является чистым состоянием понимания, или мысли. Если я так мыслю, то, во-первых, мыслю о мысли, о чем-то незримом, и тогда существую. Иными словами, человеческое существование реализуется, исполняется в точках мысли, eсли под мыслью понимать те состояния, о которых я говорил. Значит, с одной стороны, мы мыслим то, что есть, а не изображено, а с другой, мыслить то, что есть, а не изображено, и означает существовать, самому войти в историческое существование, пребыть, стать, а не остаться на полдороге. У Арто хронически появляется мысль о a mi-chemin (в переводе – «на полдороге»). Это одна мысль. А вторая мысль страшная (он ведь на себе все испытывал) – это мысль об avortement. В уродливом переводе на русский язык это «абортивные рождения». Аборты бытия, аборты мысли; в данном случае – естественные аборты (есть искусственные, а это — естественные). L’existence avortee — «абортированное существование», полумысль, полужелание, или, как выражались, velleite (в переводе – «робкая попытка, поползновение»).В прошлый раз в связи с Прустом я рассказывал об этом velleite. И эту ситуацию физически на себе испытываемой невозможности мысли Арто очень часто описывает как скрежет столкновения абортов (сказать по-русски это не получается, по-грузински — тоже), heurt indescriptible des avortements – «неописуемое столкновение абортов». Представьте абортивных уродов, которые сталкиваются, одна половина мысли сталкивается с другой половиной мысли; они вообще-то родственные, должны были бы как-то соединиться, но – не a propos, и они, обе абортивные, сталкиваются одна с другой. Это и есть то, с чего я начал другими словами, к чему снова выхожу. Это как бы современное сознание высшей миссии художника. Оно может быть выражено следующими словами: высшая миссия художника (а он есть лишь просто крайний, предельный случай любого человека, любой человеческой миссии, миссии любого человека как ответственного существа) это существовать (речь идет не о длении физического существования, конечно), существовать в смысле бытия. И это сознание распространилось в культуре XX века, потому что это культура, которая знает о смерти, то есть о смертности цивилизации, она знает, что мысль не сама собой разумеется. (Это никогда не разумелось само собой, но не всегда было знание культуры об этом.) И поэтому, к примеру, такой человек, как Мандельштам, мог сказать такую интересную фразу, что существовать — высшее честолюбие художника. В данном случае актом слова, актом краски, актом театрального жеста и постановки пребыть, ввести через себя в полноценное жизненное историческое существование все то, что просит родиться, что стучится в двери бытия, но может остаться на полдороге, может не пребыть и, как говорил тот же Мандельштам, «в чертог теней вернется». А чертог теней — вещь очень опасная. В литературе это звучит красиво, а в нашей реальной жизни, где мы это еще больше испытываем, может быть просто страшно, хотя мы связи одного с другим не узнаем. Ведь мы в нашей, в данном случае русско-грузинской культуре (поскольку Грузия составляет часть Российской империи), живем жизнью теней, то есть жизнью недородившихся людей, у которых все осталось на уровне полусуществования: у нас ведь не честь, а намерение чести – velleite; у нас ведь не свобода, а намерение свободы; у нас ведь не искренность, а намерение искренности; у нас ведь не мысль, а намерение мысли. Я вращаю вас в лоне очень существенного различения, с которого и начал, хотя в других словах. Возьмем это на примере мысли. Есть две разные вещи: намерение мысли, мысль как она же сама в виде намерения, а есть мысль — событие. Все осуществления в отличие от полусуществования опосредованы или связаны с определенным искусством, или с техникой, с техносами. В этом смысле, например, искренность есть не психологическое человеческое состояние (оно фальшиво, как мы уже знаем, ибо изображает что-то), а искренность есть искусство: быть искренним можно только посредством труда и искусства. То же самое касается правды, истины. Еще поэт Уильям Блейк говорил в одном из своих мистических прозрений: ни один человек не может прямо от сердца говорить правду. А мы ведь считаем, что «прямо от сердца», и нам достаточно: если есть намерение любви — значит мы любим, если у нас есть позыв искренности — значит мы искренни, если у нас есть позыв чести – значит у нас есть честь. Ничего этого нет, это все недосуществование. И Арто осознавал, как трудно от досуществования, которое набито этими позывами, перейти в существование. И нам это должно быть ясно, ведь все мы — голоса из лимба неродившихся душ. Термин «лимб» не переводим ни на какой язык, а книжка Арто – на себе физически пережившего эту проблему, сейчас описываемую мною чисто интеллектуально, – которую я принес c cобой, не случайно так и называется, «L’ombilic des Limbes». Кстати, один способ описания не хуже другого, просто Арто можно пожалеть, что он распял себя на кресте этого перехода из лимба в существование. Но как перейти? L’ombilic des Limbes, то есть пуповина лимба. Эта пуповина все-таки соединяет тебя с лимбом, даже когда ты уже вышел из него, особенно потому, что нужно все время впадать, нельзя раз и навсегда выйти, всегда приходится заново впадать в состояние вышедшего из лимба. Значит, есть пуповина, и этот лимб – неродившиеся души, стучащиеся в двери бытия. Я описываю проблему Арто, она у него как бы двойная: с одной стороны, это проблема лирики человеческой души, с другой, — исторического существования, то есть вхождения того, что есть в лирике человеческой души, в историческое существование. Возьмем лирику человеческой души. В чем здесь дело? Французы говорят «personne ne veut rendre son ame» (это тоже непереводимо ни на грузинский, ни на русский язык) – «никто не хочет отдать свою душу». «Отдать» — уже плохое слово, во французском это, скорее, обнажить, показать, выставить для всеобщего владения и обозрения свою душу. Никто не хочет отдать свою душу. Почему? Из стыдливости? Нет. Почему? По одной простой причине: потому что моя душа – это то, чего я и сам не знаю, и с чем только я, один на один, имею дело, и могу только сам своим трудом в себе кристаллизовать, если мне удастся. Как же я могу тем, чего я сам не имею, поделиться с другими? Невозможно, поэтому никто не хочет отдать свою душу: это его собственный интимный счет перед самим собой, перед тем, чего он сам не знает и что он еще должен ввести в существование, дать форму, дать родиться. Это есть лирика, это лирическая нота нашей души. А с другой стороны, уникальная ответственность есть ответственность, разрешающаяся тем, что это получает существование, входит и полноценно стоит на ногах в мире, на пыльной площади. Представьте себе босую мысль на пыльной площади. Такой была сократовская мысль: жизнеспособная, хоть и босая, стояла она на площади. Но на этом переходе возникает вопрос. Мы ведь не только лирики в том смысле, что есть что-то, чего мы не можем отдать другим или показать другим, обнажиться перед другими, просто потому, что мы сами перед этим бессильны, беспомощны и еще не знаем, сами должны узнать. И в этом, кстати, состоит и крах любой гуманистической демократической фразеологии по отношению к культуре. Она вся строится на предположении (особенно в ее социалистическом варианте), что культура есть что-то, чем можно владеть, и что, следовательно, раз владеешь этим как предметом потребления, это можно делить и желательно поровну. Так ведь? А действительная культура, или действительно аристократичный дух в глубоком смысле этого слова, в духовном смысле этого слова, означает, что нельзя поровну поделить (и вообще поделить) то, чего нету и что может быть только завоевано или не завоевано с большим риском и опасностью в том интимном отношении, которое никто из нас на всеобщее обозрение изнутри самого себя не выставит (никто не хочет отдать свою душу). Чему мы можем на этом переходе доверить это состояние? Письму, слову, жесту? Это проблема, потому что можно доказать и показать, что доверить ничему нельзя (Платон говорил: как можно вообще говорить то, что думаешь?). То, что должно быть а propos, то сложное состояние (которое я описывал) – вот если это подумаешь, – чему можно было бы доверить? Слову? Нельзя. Письму? Тем более нельзя (Платон говорил: как можно вообще что-то писать?). Жесту? Как? Жест ведь тоже изображение, а изображение неуместно. Но посмотрите, до чего мы дошли в этих состояниях. Ведь дело в том, что наша жизнь — российская жизнь и грузинская тоже — не поддается классическому театральному изображению, потому что там есть еще ряд фантомов, через которые надо пройти, чтобы был театр театра, то есть чтобы разрушить театральным показом изображенность чего-то и показать на минуту то, что нельзя было изобразить. Ведь театральная постановка есть разрушение изображения того, что не должно было быть изображено, и шанс для неизобразимого случится на сцене, поскольку реальность — это всегда другое по отношению к сцене, или сцена есть какие-то фигуры другого, разыгрываемого на наших глазах. Но они должны быть построены так, чтобы другое собственнолично выступило перед нами. Вот задача театра Арто, и почему она больше доверяла крику и жесту, причем сильному жесту, чем словам или сообщению чего-то содержанием слов. Насколько мы театральны! У нас это в квадрате. Скажем, в грузинской или в русской пьесе невозможно изобразить вора по одной простой причине: потому что в самой жизни вор играет вора. Вы прекрасно знаете тип блатного. Возьмите его мимику, этого не существует в Европе, там воры — профессионалы, они воруют, а не играют воров. А русский блатарь или ჩვენი რამკიანი ქურდი — посмотрите на его мимику, как он играет вора. Это не исключает того, что он реально вор, нет. Я говорю о другом. И попробуйте теперь в пьесе изобразить вора, который играет вора. Он уже играет. Значит, ваша изобразительная задача — другая, вы не можете воспроизводить характер. Какие воровские характеры вы можете ввести в грузинский спектакль? Не можете. Американского гангстера можно ввести, французского бандита тоже. Я видел несколько прекрасных фильмов с Аленом Делоном. Мельвиль (3) сделал немного фильмов, из них — несколько полицейских. Один из них – «Самурай» — в жестком американском стиле черного детектива, где одинокий герой стоит перед лицом враждебных сил и разыгрывается, как по нотам, почти что греческая трагедия. Он профессионал, он не играет вора или бандита. Он бандит. Вернусь к проблеме. Чему мы можем доверить это состояние: письму, слову, жесту? Ницше, cходя с ума, подписывался «Распятый на кресте» — Der Gekreuzigte, а все тексты уже в безумии написанные Арто, а он десять лет пробыл в психиатрической клинике и лежал в психиатрической клинике, когда случилось то, что он предсказывал – на улицы Парижа вошли немецкие войска… Вернусь к сценическим механизмам изображения: Арто фактически имел в виду, что нужна сильно сбитая, сильно структурированная, сильно сцепленная машина, чтобы вообще могло случиться состояние понимания в голове человека — в голове актера и в голове зрителя. Это театр насилия, или театр жестокости, потому что только жестокость может до конца изгнать изображения того, что нельзя изображать. Только жестокость. Но Арто добавлял все время — ни в коем случае не в реальности, тогда теряется весь смысл. Вся кровь и насилие есть кровь и насилие в построении изображения, разрушающего изображение, а если мы этого не сделаем, не пройдем через эти катарсисы в наших собственных культурах, то в реальности все случится реально, то есть все это произойдет буквально. Он предупреждал об этом в тридцатых годах, еще до фашизма. И потом все это случилось: в Париж вошли немецкие войска. Ведь немецкие мифы, в частности немецкий расовый миф, или советский социальный миф, — все они разыгрались в реальности. Немцы вкатились в свой расовый миф, причем со всеми атрибутами театра, который только театр: факельные шествия, драматические изображения сжигания книг. Каких только театральных знаков у них не было! Тайные ложи СС с очень возвышенной идеологией; символическое восхождение на Эльбрус, совершенно бессмысленное в военном отношении, но абсолютно значимое символически; водружение свастики на Эльбрусе как символа воссоединения немцев со своей исконной родиной, потому что, как известно, вся белая раса произошла с Кавказа. И в американском языке в отличие от английского caucasian означает «белый», человек белой расы. У нас же по линии социального мифа (какая разница, расовое или социальное превосходство, то есть деление на группы, структура абсолютно та же самая) вкатились в состоянии хронической гражданской войны. Ведь чем характеризуется сегодняшний день? Тем, что если у одного из французских авторов было название «Троянской войны не будет», то возможна какая-то советская пьеса под названием «Гражданская война продолжается». У нас гражданская война, со всей театральной атрибутикой, со всеми соответствующими позами и так далее, сменила гражданское состояние людей. Так вот, я говорю, что бедный Арто уже сидел в сумасшедшем доме, а на улицы Парижа вошли призраки его собственных предсказаний и предвидений. Повторяю: или вы разыграете все это в своем воображении и справитесь тем самым с определенными силами, или эти силы — кровь и насилие — будут не в театре, а в реальности. Так оно и случилось. И вот это – ощущение разницы между миром полноценных существований и миром несуществования на пороге изображения, который отделяет один мир от другого; чтобы нечто, имеющее порыв к существованию, стало не абортом, не просто лирикой, а стало бы на ноги, вошло бы в историческое существование, нужна техника, аппарат. Такими аппаратами являются искусство, философия, мысль и тому подобное. Есть такие аппараты, аппараты таких событий, но это аппараты событий, а не просто сумма знаний. Возьмем философию. Она не есть сумма знаний, вообще мысль не может быть суммой, которую можно передать кому-нибудь другому. Это что-то, с чем можно работать – его собственная сила, крепко сцепленная машина может породить, индуцировать в голове какой-то переход, какой-то опыт, какое-то наше впадение в мысль, в понимание, в любовь, в чувство и так далее. Ведь нельзя иметь чувство само по себе – захотел волноваться и заволновался. Невозможно. Иногда как пень стоишь перед тем, что, абстрактно говоря, должно было бы тебя волновать, но не волнует. Почему? А другого волнует. Почему? Один и тот же предмет. Видимо, здесь вся причинная структура универсума действует иначе. Эта нота различения промелькнула и в русской литературе. Она началась у Гоголя и уже в современности завершилась — эту ноту продолжил Набоков. Набоков очень чувствителен к голосам неродившихся душ и к условиям, выполняя которые, такие души могли бы рождаться, переходить из лимба в рождение. Поэтому он очень чувствителен к фантасмагориям Гоголя, у которого впервые появляется потусторонняя лирика недоделанных людей — неродившихся или уже умерших, начинающих жить после смерти. И в двадцатые годы в советской литературе чисто литературную линию (то есть достойную линию, когда люди действительно работают со словом, чтобы решать какие-то задачи) продолжала, например, так называемая школа обэриутов: Введенский, Хармс, Бахтерев, Заболоцкий частично, с другой стороны, Платонов, Булгаков, Зощенко и другие. Они через язык дали запись (некоторые из них даже в абсурдном театре; первая попытка театра абсурда была у Хармса например) голосов душ, оставшихся в лимбе, голосов того, что нам говорит из лимба неродившихся душ. Так Платонов следовал одному только гению языка, сам лично ничего особенно не понимая. Когда ему приходилось рефлексивно говорить о себе и о своем творчестве, это был обычный советский человек с той же степенью тупости и непонимания, как и любой другой. А в языке, то есть в творчестве, следуя гению и стихии языка, он показывал, давал понять страшную картину потустороннего мира, в котором живут, казалось бы, люди, но они получеловеки. Они человечны в попытке, в позыве к человечности и живут в языке. В «Чевенгуре» лошадь, на которой едет герой, зовется «Пролетарская революция», а на груди и в сердце он носит портрет Розы Люксембург, – это означает возвышенную любовь. Это идиоты возвышенного; не просто идиоты, это категория идиотов возвышенного. Кстати эта категория началась с Достоевского. К упомянутым мною героям и мученикам— Арто и Ницше —- нужно добавить и его. Интересно, что он первым пометил то, что в дальнейшем должно было развиться, — появление типа неописуемого человека, которого он сначала пытался писать как Дон-Кихота. Но логика языка привела его к тому, что у него вдруг получился тот, кто поначалу носил фамилию Картузов в набросках к повести, потом уже в романе «Бесы» этот тип получил фамилию Лебядкин. В варианте Картузова он, любящая красоту полудуша в лимбе, в лимбе прекрасного, возвышенного, влюбился в проехавшую мимо него на лошади великолепную даму, амазонку на лошади. И потом по любви возвышенной, но любви неродившегося человека Лебядкин уже получил и право (он заимел его актом своей любви) на предмет любви: я люблю — значит мне уже полагается. Например, советский человек любит Испанию, она ему полагается, потому что он Испанию лучше понимает, чем сами испанцы. Вы знаете этот феномен российской любви ко всему миру. Скоро во всей вселенной не уцелеет ни один предмет от этой всеразрушающей любви. Такой вот любовью любит Картузов в восьмидесятые годы прошлого века. (Потом эта дама упала с лошади и сломала ногу, и он написал: «Краса красот сломала член».) Эта та лирика, которую потом развили (вы, наверное, помните абсурдные стихи о тараканах) обэриуты в русской поэзии. Давайте на этом и закончим. Я завершил, по-моему, круг. |
-
«В родстве со всем, что есть, изверясь / И знаясь с будущим в быту, / Нельзя не впасть к концу, как в ересь, / В неслыханную простоту»
-
Театр это его двойник (с фр.)
-
Жан-Пьер Мельвиль (1917-1973) – один из крупных французских кинорежиссеров.