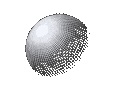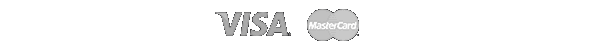© Людмила Калиниченко, 2012
До поезда еще оставалось время. Мы простились с Мерабом, а солнце, как и положено, клонилось к западу. Скрипучим фуникулером мы с Виктором Визгиным поднялись на Мтацминду. Внизу в ароматной осенней дымке возникал Тбилиси. На его фоне я вдруг заметил коричневую спину орла. Первый рефлекс: штамп, по тросу скользящий сувенирный знак Кавказа… В следующее мгновенье мы узнали его: это была настоящая птица, впервые виденная нами и сверху. Он плыл, огибая гору, ведя наши головы слева направо. Так, не сделав ни единого маха, он растворился над Ботаническим садом. Однократная значительность этого события разрешилась тогда легким и странным впечатлением: Божественный Мераб!.. Момент чисто формального сходства: я заметил — когда между собой мы говорили «Он», то всегда с извиняющей улыбкой и едва заметным склонением головы в незримое место Его присутствия. По-настоящему я уже не научусь говорить «Он», «Он был»…
***
До каких пор будет продолжаться сакрализация мыслящих тел?
—М. Рыклин
У нас бытует нескладуха, будто голова важнее руки.
—В. Подорога
Разговор между М. Рыклиным и В. Подорогой случился [1], и уже нельзя делать вид, что ничего не было. Собственно, это первый существенный разговор о Мерабе Мамардашвили, и кто знает, закончится ли он когда…
Я хотел бы здесь сделать пространную реплику по поводу этого «одного философского опыта», где авторы, имея в виду опыт Мамардашвили, явили, очевидно, и опыт собственный. Мне представляется существенным то, что наговорили М. Рыклин и В. Подорога. Существенным и поверхностным — однако не в уничижительном смысле, а в том, что касается их непосредственного интереса, аккомодации их взгляда, полностью захваченного поверхностью, периферийной стороной того события, имя которому Мераб Мамардашвили. Опыт наших авторов я и называю попыткой «децентрализации» Мераба Мамардашвили, имея в виду, конечно же, известных французов. Очевидно, что в опыте В. Рыклина и В. Подороги мы имеем дело с «философией по краям» — в данном случае «по краям» Мераба Мамардашвили. Однако сейчас меня интересуют не Деррида с Делзом, а то, что сделано нашими авторами. Упоминание о французах мне нужно лишь для фона, который призван как-то смягчить эпатирующую маргинальность восприятия Мамардашвили нашими авторами. Правда, для меня имеется различие между ними — по крайней мере в стилистике. Так, пусть упомянутые французы не позволят мне сказать о М. Рыклине то, что М. Рыклин говорит о Пятигорском и Мамардашвили, называя их позицию «совершенно оригинальной» — что для непредвзятого читателя звучит так, что «Это уж ни в какие ворота не лезет». О В. Подороге хочу сказать — ибо лучше его понимаю, — что его дело столь рискованно в своей видимой определенности, что тем, у кого может возникать паразитический соблазн урезонивать автора, должно быть, несть числа. Я не хотел бы в этом числе оказаться. И моя критика относится лишь к тому, что сказано, явлено в случившемся разговоре.
Теперь я отдельно коснусь того, что говорит Рыклин и что Подорога. Начну с первого. С самого начала разговор о Мамардашвили Миша ставит в контекст темы «метафизика в речевой культуре». Стало быть, есть «метафизик в письменной культуре». Вот уже и объявленное начало смелой «децентрализации» привычных оппозиций, которое обязывает к последующей игре, — а мы увидим, что Рыклин — человек очень обязательный. Итак, для М. Рыклина Мамардашвили и Пятигорский являются персонификацией объявленной темы. Здесь имеется в виду их работа «Символ и сознание» [2], которую наш автор называет «компендиумом особого подхода к философии». Приведу содержательное резюме, которое дает Рыклин по поводу «Символа и сознания». Процитирую сказанное Рыклиным и покажу, что сказано это «с фигой в кармане» — впрочем, безобидной, ибо сказанное ни к кому на самом деле не относится. «Они (т.е. Мамардашвили и Пятигорский. — В.К.) настаивают на том, что все факты культуры рефлексивно дублируемы и только в состоянии рефлексивной дублируемости мы имеем аутентичное постижение этих фактов. По сути дела, здесь можно видеть радикальную критику натурализма, так как утверждается, что эти факты культуры даны нам натурально, в ситуации как бы своей ложности, так что постоянное «расколдовывание» этих натурально данных (т.е. неистинных) вещей считается философией, вводится в ранг философии» [3].
Сначала о фиге. Совершенно очевидно, что достоинство, которым награждает Рыклин авторов, у которых, по его словам, можно видеть «радикальную критику натурализма», в пределах одной и той же фразы Рыклина превращается в свою противоположность, ибо: считать, что натуральная данность всех фактов культуры означает их «как бы ложность», «неистинность», — это и значит не видеть различия между «натуральным» (естественным) и ненатуральным (искусственным) и в конечном счете вообще не признавать натурального, рассматривая его «как бы ложным». Поэтому фраза Рыклина фактически означает, что авторы «Символа…» не признают натурального и потому их критика натурализма (т.е. ложной натуральности) вполне бессмысленна (Рыклин называет это радикализмом).
Странное очарование речи Рыклина заключено в ее упорной неотносимости к содержанию говоримого, более того — к предмету разговора. В данном случае приведенное резюме Рыклина не имеет отношения к авторам «Символа…». В этом тексте не только нет следа какого-либо «рефлексивного дублирования фактов культуры» или манифестаций такой предпосылки, — там совершенно иные диспозиции и культуры, и рефлексии, и натуральности, и многого прочего. В рефлексии дублируется не факт и тем более не факт культуры, а сознание факта. Более того, строго говоря, и само дублирование здесь следует брать в кавычки. И конечно, в «Символе…» в ранг философии не вводится «расколдовывание» фактов культуры. Здесь уместно обратиться к тексту «Символа…», потому что неотносимость изобретенной Рыклиным квалификации к первоисточнику проявится тогда сама собой. «В самой общей формулировке, — пишут авторы «Символа…», — рефлексивная процедура — это описание любого содержания как состояния того, кто его описывает (при этом само это описание также предполагается состоянием описывающего и т.д.)… В отличие от сознания (в нашем терминологическом смысле слова) рефлексивная процедура существует (именно «существует», а не только выражается) исключительно в языковом описании, и потому она несводима к субъективностям психики, ибо язык объективен» [4]. В рассмотрении авторов «Символа…» рефлексия среди языковых феноменов выступает как наиболее культурно обусловленный феномен. Без рефлексивных процедур невозможны некоторые содержания, имеющие очень большое значение для самой культуры и языка как «культурного образования». Речь идет о содержаниях, без которых невозможно осознание культурой и языком самих себя, а следовательно, и понимание их внешним наблюдателем, который так или иначе исследует именно рефлексивные тексты, где уже зафиксировано наблюдение культурой самой себя (для авторов, например, миф несет такие содержания первичной рефлексии). Рефлексия же самого исследователя осуществляется в высказываниях типа «язык есть только язык, и без понимания этого обстоятельства невозможно понять, что это такое»; или: «не следует думать, будто язык, на котором я говорю, есть язык других людей», ибо в противном случае — если исходить из установки «язык есть везде» или «все можно описать в порядке языкового описания» — это значило бы помещение всюду «самого себя». Все это и означает, что «адекватный», т.е. понимающий, подход к культуре исходно не натуралистичен и предполагает учет первичного понимания культурой самой себя. Такое понимание со стороны исследователя включает осознание такого внутреннего слоя культуры, как символический строй ее, символический аппарат, могущий, как пишут авторы, «играть своего рода роль «универсального ключа» в культуре, т.к. он одновременно входит в рефлексивную процедуру как способ осознания в содержание рефлексии — как то, чем культура обозначает саму себя для самой себя» [5].
Ясно, что здесь ни о каком рефлексивном дублировании фактов культуры со стороны исследователя нет и речи. Но можно было бы возразить на это, спросив, не относится ли показанное выше, так сказать, к объективному описанию рефлексии — между тем как в реальной работе у самих авторов «Символа…» все происходит иначе? Однако и на этом уровне вышеприведенная оценка Рыклина несправедлива. Здесь также я позволю себе привести некоторые цитаты из «Символа…»: «Люди, которые впервые в истории ввели понятие рефлексивной процедуры, где нейтрализуются разные условия сознания и учет сознания протекает не на уровне непосредственного функционирования и содержательности сознания, а на уровне воспроизведенного сознания, на уровне рефлексии», понимали, что «они производят разрыв с некоторой экзистенциальной основой содержания знания. Они производили этот разрыв не в том смысле, что они считали эту основу несущественной. Они понимали, что с переходом на уровень рефлексии и с дублированием некоторого спонтанного процесса сознания на рефлексивном уровне строятся какие-то особые конструкции — рефлексивные конструкции контролируемого повторения и воспроизведения того, что было прежде спонтанным, неконтролируемым, дискретным. Они понимали, что связь во времени появляется на уровне рефлексии, а на первичном уровне ее нет. То есть они понимали, что есть «дублирующие» конструкции, где события происходят как бы дважды: в первый раз как само по себе, во второй — так, как если бы имелся с самого начала рефлексивный механизм»[6].
Важно заметить, что речь идет о «событиях сознания». И только тогда и там, гда появляется еще одно допущение, согласно которому «истинное положение дел» таково, каким оно может открываться сознанию, репродуцированному рефлексией, — там и тогда возникает то, что Мамардашвили называл «классическим идеалом рациональности». А само по себе введение рефлексивных процедур хотя и лежит в основании классики, но составляет также основу рационального разумения вообще. И только по отношению к классической установке можно еще — с известными оговорками — употребить характеристику «расколдовывание культуры», имея в виду поиск того, «что есть на самом деле». В «Символе…» поиск совершенно иного рода. Здесь не культура «расколдовывается», а культурная «ангажированность» сознания подвергается испытанию в своей действительной или мнимой непреложности.
Последнее можно видеть частично уже из того, как авторы «Символа…» понимают оппозицию сознание—культура и какую роль в этой связи отводят философии. «Культура, — пишут они, — как и язык, — это нечто в высшей степени формальное по отношению к сознанию: нечто от сознания попадает в культуру и немедленно подвергается тому, то можно было бы назвать культурной формализацией, и становится само культурным формализмом, функционирование которого зависит от того, насколько это именно «формализм», т.е. насколько сильно в нем редуцированы условия жизни сознания. В той мере, в какой эта редукция удается, культура выполняет свои задачи для человеческой жизни и человечества. Человеческая способность к размерности (т.е. к производству любых фиксированных оценок)[7] закрепляет результаты культурных редукций фактов сознания, но одновременно с этой способностью должны существовать способности и силы, задача которых — противостоять культурным формализациям. Сохраняя, вписывая в культуру те условия, которые культурные формализации должны редуцировать, эти силы сохраняли и некоторые другие условия сознательной жизни, чтобы та же самая культура работала успешно…»[8].
Согласно авторам «Символа…», эти антиредукционистские механизмы порождают и воспроизводят внекультурные, «архаические» символические образования и сообщают «психотехническое «Символ…», а использование уже формализованным объектам». А современную философию «в каком-то очень узком смысле» они определяют как нечто, благодаря чему выполняется означенная архаизация культуры. «Именно сейчас, больше, чем когда-либо, философское умозрение восполняет своей архаизацией потерю культурой связи с первичными условиями символизации сознания» [9].
Показанное выше, во всяком случае, делает очевидным неосмысленность того, что говорит Рыклин там, где его будто преследует пресловутая «дублируемость фактов культуры». Но дальше — интереснее: «Отстаиваемая Мамардашвили и Пятигорским философия интересна радикальным противостоянием всей логике современной культуры (итак, есть современная культура, а у нее «вся» ее логика — что за логоцентризм! — В.К.); фактически это противостояние находит выражение в довольно радикальном тезисе: сознание там, где нет языка, и там, где есть язык, нет сознания» [10]. Не знаю, как насчет всей логики современной культуры, но у авторов опять-таки нет того, что говорит Рыклин. Ограничусь одной цитатой: «Разумно предполагать, что какие-то структуры языкового мышления более связаны с отсутствием сознания, чем с его присутствием. Сознание невозможно понять с помощью исследования текста, в лучшем случае здесь сознание «проглядывает», а вообще текст может быть создан без сознания, в порядке объективного знания или спонтанно. Сам по себе как абстрагированный от конкретно-содержательных моментов объект ничего не говорит о сознании. Текст может быть порожден, а сознание — не может быть никаким лингвистическим устройством, ибо оно появляется в тексте не в силу каких-то закономерностей языка, но в силу какой-то закономерности самого сознания» [11]. Как видим, здесь суть дела не сводится к той «топологической дизъюнкции» сознания и языка, которую изобретает Рыклин.
Страницей ниже мы видим, как фантом «колдовства» снова настигает нашего автора: «Между тем все современное мышление (опять — все! — В.К.) настаивает на том, что в мире есть зоны принципиальной «нерасколдовываемости», причем субъект как бы сформирован этими зонами, во многих отношениях зонами немыслимости мысли, к которым неприменимы абстракции разрешимости, считающиеся универсальными в позиции Мамардашвили — Пятигорского» [12]. Миша, действительно, такие зоны есть, и этому посвящена работа «Символ и сознание» и почти все работы Мамардашвили. Такие зоны у него не только признаются, но и являются предметом анализа, и вот это порождает, очевидно, у вас путаницу. Наличие таких зон, коими субъект «как бы сформирован», означает, что этот субъект не может обладать относительно таких зон привилегированной точкой опоры для «расколдовывания», т.е. превращения их в подконтрольные сознанию «детерминации». Однако само усмотрение наличия таких зон как факт сознания философа как раз и означает, что всякий раз, когда речь заходит о какой-либо конкретной зоне, он не может полагать ее заранее в ее нерасколдовываемости — для Философа это значило бы валять дурака. Философия — когда такие зоны попадают в сферу ее интереса — вынуждена как-то обходиться с ними, испытывать их, отбросив всякую заведомость, и вот это свое «обхождение» — уже возможно расколдовывать или рефлексивно дублировать, — иначе это не философия, а, скажем, литература. Полагать заведомо нечто Философ может «в принципе» и «вообще» — у Канта поэтому единственное общее название зон, о которых вы говорите, — это «вещь сама по себе». Относительно конкретных воплощений «вещи самой по себе» необходимо всякий раз доказывать, что «это» именно воплощение. А стало быть, можно и не доказать или прийти к обратному. И мышление — если это сознательное мышление — не может настаивать на существовании зон принципиальной «нерасколдовываемости», т.е. настаивать на ненужности труда доказательства. Иначе как это мышление сможет исследовать или вообще «иметь дело» с самой «нерасколдовываемостью»? Не случайно авторы «Символа…» столько усилий тратят на прояснение своей позиции, позиции метасознания. Само сознание здесь парадоксальным образом обнаруживается «непрозрачным» для сознательного опыта, поэтому здесь потребны косвенные стратегии исследования.
Итак, расколдовать мы можем не все. Но и заколдовать — тоже не все. Вот против заведомой «заколдованности» и выступают авторы «Символа…». Приведу к этому любопытный критический пассаж: в современной лингвистике — говорят Мамардашвили и Пятигорский — происходит забавная вещь: она тоже (как и классика) занимается спекуляцией, «только вместо того, чтобы, как, скажем, в классической философии, полем онтологии было бы тем или иным способом изображаемое или символизируемое сознание (выполняющее любой акт изучения вещественных структур), в современной философии анализа таким полем стал сам язык, язык стал онтологией… И таким образом, вместо того, чтобы превратить язык в ступеньку к сознательной жизни, его превращают в ширму, которая отграничивает мыслящего субъекта от спекулятивной (онтологической) стороны сознания и в то же время закрывает от субъекта и его неосознанную тенденцию к реонтологизации способа описания. То есть вместо того, чтобы максимально далеко пойти в признании описательного характера любого описания (и одновременно в признании, что есть вещи, которые невозможно описать), и тем самым нейтрализовать некоторые свойства описания посредством таких, например, редукции, как «язык — это только язык», «культура — это только культура» и т.д., и тем самым лишить их онтологического статуса, они, отвергнув онтологические сущности, вновь онтологизируют и абсолютизируют свойства описания (посредством таких «предпосылок», например, как «язык — это все», «метод — это все», «культура — это все» и т.д.)»[13].
И разве со стороны авторов «Символа…» это не попытка дойти до предела философского дискурса, — но до предела, а не до смерти — как остерегал себя и Деррида, идя к пределу от «центра», от тех фундаментальных оппозиций, вне которых, по его убеждению, философии не существует [14]. Иное дело, как понимается «центр» или «край», и тот же Сёрль в своей реплике [15] показывает, сколь двусмысленной оказывается «деконструкция», проведенная до конца.
И вот с определенного места М. Рыклин переходит, собственно, к «краям», так сказать, к исполнительскому стилю Мамардашвили, к его «устной культуре». Признаюсь, поскольку я совершенно не разделяю того, что именно в предыдущих речах Рыклина еще как-то относилось к «центру», т.е. к содержанию философии Мамардашвили, — то и самого перехода к «краям» понять не могу. Поэтому для меня это просто поворот к заранее заявленной и интересной теме.
Рыклин жестко сопрягает вменяемые Мамардашвили оценки философии с его способом философствования, который наш автор называет «новой и одновременно, видимо, очень архаической техникой передачи мыслей»: «Это устное говорение. Причем ситуация устного говорения играет здесь такую же роль, как джазовая импровизация в присутствии зрителя. В стерильной студийной атмосфере музыканты не могут повторить то, что легко удается им в ситуации напряженного публичного ожидания»[16]. Похоже на правду. Похоже — не более. Ибо очень уж драматично — только ли одна была импровизация? Конечно, ситуация публичного ожидания создает эффекты и аффекты, но вряд ли отсюда можно выжать метафизику. Не надо путать джазовую импровизацию с непредсказуемостью мысли. Кроме того, почитайте Хайдеггера — это сплошная «импровизация». И даже Кант. А ведь эти — если и говорили — читали свое написанное. Да, действительно, Мамардашвили по форме дидактичен. Собственно, он почти всегда «читал» одно Введение в философию, а точнее, в философствование. Но этим далеко не исчерпывается его философия, и здесь я согласен с Ахутиным: у Мамардашвили можно обнаружить все основные разделы, которые приличествует иметь философской дисциплине в целом.
Научение, которое осуществлял Мамардашвили, говорит далее Рыклин, и не может осуществляться через текст. Да, мы знаем, есть вещи, которые не передаются текстом. И Христос не профессор. Но не надо так драматизировать Мераба. Говорение ведь тоже текст — всего лишь текст. Разумеется, этот текст был сцеплен с его индивидуальностью, голосом, жестом, трубкой, наконец… Но ни устное говорение, ни письмо не есть техника передачи мыслей — это лишь техника передачи стимулов, провоцирующих мысль — если повезет, как любил повторять Мераб. Мамардашвили пользуется архаичной техникой передачи мысли, говорите вы? Я еще могу согласиться здесь с «архаикой» — когда бы речь шла о его способности и силе противостоять культурным формализациям, — о чем шла речь в приведенном пассаже из «Символа…». Но смысл, какой сюда вкладывает Рыклин, таков, что естественно возразить: это все равно, как если называть «архаичными» людей, рождающих детей «старым способом» (выражение Мераба). Просто есть Философы, а есть профессора философии. Иногда это совмещается, иногда нет. Вот и все. Я понимаю, как это неинтересно для публики, купившей билет на «метафизику в речевой культуре». Но я не хочу сказать, что билеты нужно сдавать. Просто исполнение этой темы требует большей тренированности в метафорах — во избежание анекдота. А тема многообещающа. Так что тренируйтесь, тренируйтесь… Я думаю, что помимо прочего сама тема «метафизики в речевой культуре» есть симптом «восстания масс», т.е. в данном случае — профанации дискурса. В этом плане М. Рыклин, пожалуй, точен; только это точность попадания в «миражи», — в то время как его конкретные герои-метафизики оказываются за пределами такой «точности». Хотя и провоцируют стрелка…
А вот дальше: «В случае устного философствования метафизика коммуницируется через тело в такой мере, в какой она не коммуницировалась, можно сказать, уже многие столетия» [17]. (Так и хочется спросить: откуда вы знаете про столетия, Миша, ведь вы не наблюдали тех тел и не могли слышать… Признаюсь, меня очень разволновала эта ваша фраза. Я понимаю, как что-то может коммуницироваться через тело, — но метафизика!.. Если Рыклин хочет отказать Мамардашвили в метафизической коммуникации (т.е. не мог он иначе, как телом…) — тогда еще можно понять. Если же нет… Что коммуницируется через тело Христа? Только не учение и не «метафизика». Для этого есть теолог, профессор. И в то же время, если что-то коммуницируется через тело Мераба, — куда же денешься, матерый ведь человек. Вот про Канта такое не скажешь? Но какое это имеет отношение к метафизике? — спрашиваю как человек, «купивший билет», не утверждая, что это не имеет вообще отношения к метафизике. Не пытаетесь ли вы, Миша, тут что-нибудь «расколдовать», например собственные сильные впечатления?
И действительно. «В результате, — продолжает Рыклин, — мы получаем возможность философию как бы увидеть, и мне повезло, что в студенческие годы довелось благодаря Мерабу Мамардашвили наблюдать, как делается философия» [18]. (И далее в скобках весьма многозначительное: «Не исключено, что в нашей культуре нельзя научить философии другим способом, нежели простым показом».) Это хорошая метафора. Это как Пушкин про Ломоносова: не только создал, но и был нашим первым университетом. Целиком разделяю это впечатление. Только давайте помнить: мы ведь видим нечто иное, и вы не слуайно говорите: «философию, как бы увидеть». Но тогда давайте скажем: метафизика как бы «коммуницируется через тело» или через его тело коммуницируется как бы метафизика. Тогда поменяется и название объявленной вами темы, зато снимется ригоризм и анекдотичность сказанного. Да, мы, кто его знал, обречены слышать его интонацию. Но разве это не псевдопривилегия по отношению к тому, что он говорил? Из того, что эту его интонацию невозможно опознать, не имея — как говорит Рыклин — «первичного контакта», вовсе не следует, что без этой интонации текст — как вы, Миша, буквально утверждаете — становится бессмысленным, а смысл, который несет текст, распадается, не складывается. Мераб ведь не петух, где, конечно, написанное «ку-ка-реку» и услышанное — разные вещи. Я совершенно не могу согласиться, что интонационно звучащая материя текстов Мамардашвили настолько доминирует над тем, что там записано. Здесь бы я понял заботу Рыклина, если бы он был режиссером или актером, которому надо было бы сыграть Философа «простым показом», — но это про другое.
Итак, мысль, по сути, непередаваема. Но можно — как хорошо говорит Рыклин — это камуфлировать, скажем, на уровне удобопонятной стилистики. Мераб не пошел по этому пути и был в этом смысле радикален — говорите вы. Почему бы не сказать — «старомоден», «архаичен»? И то, что вы называете у Мераба «образчиками» (!) чисто речевой культуры, имея в виду особенно его последние интервью, его устную «все более непередаваемую и достаточно паралитическую речь»(!), — это ведь опять же (допустите) связано с ситуацией (взяли интервью — дал интервью, «хотели кушать — и съели Кука»). Но вас простые ответы не устраивают, и вы начинаете расколдовывать через указание на «вообще нашу ситуацию» ненормальную, с изуродованностью культуры и нарушением иерархии дискурсов. Однако если принять (почему бы и нет) ваши характеристики, если принять, что метафизика у нас развивалась «из точки культуры, которая маркирована в социуме как периферийная», то почему отсюда следует, будто «метафизическое письмо при продвижении речи из глубины к поверхности как бы рассеивается, превращаясь в речь»? Сим экстравагантным образом всеобщей повязанности вы фактически говорите, что у Мамардашвили нужда превратилась в добродетель и он в метафизики вышел благодаря «артистичному, доведенному до логического завершения косноязычию» [19], — впечатление, достойное какой-нибудь экзальтированной дамы, из тех, кто ходили Его смотреть, а не слушать.
Не следует ли заметить, что — вопреки вашей картинке – между культурой и метафизикой нет той системной повязанности; — так, что еще можно сказать «как нам обустроить культуру», ноЪот «как нам обустроить метафизику» — не идет, а стало быть, и «развитие метафизики из точки культуры» — это особая метафора, и если об этом забыть — тогда можно заключить о доведенном до логического завершения косноязычии Мамардашвили.
«Можно говорить даже о личном подвиге авторов, — говорит Рыклин о Пятигорском и Мамардашвили, — благодаря которым возможность метафизики состоялась в культуре». И тут же — как бы сам испугавшись, что много отпустил: «Впрочем, состоялась она с огромными искажениями, скорее даже не как система, а как совокупность интонаций… Можно сравнить это с обязательной программой, скажем, в фигурном катании»[20]. И более ничего?! Ну и то слава Богу.
Рыклин справедливо отмечает, что философия Мамардашвили этична. Однако из этого наблюдения (из этики) наш автор снова старается выжать максимум (мораль), выводя отсюда, будто Мамардашвили осуждал любую попытку систематизации первичного философского акта. Снова Мамардашвили приписывается превращение нужды в добродетель. Поистине, Миша, у вас маниакальная энергия к расколдовыванию, к неумолимой тяге на «край». Вон до чего под конец довели себя по адресу наших совершивших личный подвиг метафизиков, вон сколько грозы в голосе: «До каких пор будет продолжаться сакрализация мыслящих тел? Можем ли мы прервать в себе интенцию превращения правильной мысли в жест праведности и лидерства, потому что шестидесятники не смогли прервать эту интенцию — и в этом их трагедия»[21].
Я пытаюсь понять, что бы это значило. Что они, шестидесятники, думали там, где надо было действовать? Или ставили в праведники мыслителей? Полноте, в том ли трагедия (хотя то, что вы называете трагедией, точнее было бы назвать трагикомедией или уж драмой)? Как раз для нашей-то ситуации и было характерно принимать взыскание, желание праведности за саму праведность, которая еще и возводилась в ранг мысли, — вместе с тем как «мыслящее тело» не ставилось ни во что — какая уж там сакрализация. Когда, конечно, о мысли речь, а не об ее имитации. Наша культура экстатична — говорите вы, — она «выделяет фрагменты, которые считают себя супериндивидуальными, но только потому, что еще недостаточно демассивизованы». Да, конечно, можно так говорить про «феномен» Мераба Мамардашвили в нашей культуре. Но ведь это — «только культура», «только экстаз» — и пусть это будет их забота…
***
…Если бы Ты появился сейчас здесь, я обязательно сказал бы в этот микрофон: «Вот тот, кто собрал нас вместе, и это — выделенный экстатической культурой фрагмент, считающий себя супериндивидуальным, потому как еще не достаточно демассивизован. И с достаточно паралитической речью притом». Хорошее начало для встречи — ведь Твои юмор и великодушие всегда страдали бессонницей…
***
Теперь позвольте мне остановиться на некоторых мыслях, которые высказал В. Подорога. Хотя у него с Рыклиным общая тяга к «краям», его мысль и речь я нахожу более контролируемыми и относимыми к предмету разговора. Если Рыклин играет в язык, то Подорога играет с языком. Остановлюсь на двух моментах.
У Подороги есть одно место, которое мне представляется весьма существенным в характеристике Мамардашвили и его философии. То, что заметил Подорога, столь точно им передано, что некоторым образом спасает сам поиск «по краям».
Подорога говорит о «физичности» самого стиля Мераба, о «глагольной метафизике», где «глаголы играют роль активных инициаторов познавательной метафоры». Так, Мамардашвили вводит в речь специфически «глагольные события» — в таких терминах, как «сращивать», «кристаллизовать» и т.п., — что вызывает у слушателя не только интеллектуальную, но и психомоторную реакцию. «Соединение двух отдельных мыслей выполняется метафорой физического действия, индуцируя в сознании слушателя физический образ мысли. Дидактическое в стиле философствования М.К. Мамардашвили заключается как раз именно в том, что он пригоняет не нашу мысль, а наше тело к другой мысли. Мы овладеваем смыслом, который строится нашим психомоторным усилием… Но самое интересное состоит в том, что М.К. настаивает на трансцендентальной рефлексивности собственного стиля философствования. И это, как мне кажется, философски очень продуктивная самомистификация»[22].
Здесь содержится точное наблюдение, но неадекватная интерпретация. Я совершенно согласен, что отмеченные глаголы играют роль активных инициаторов «познавательной метафоры». Но не более того. Подорога считает, что стиль М.К. физичен — без приставки «мета-»; считает также, что это вовсе не какое-то уместное использование физической терминологии, а именно элемент «философски продуктивной самомистификации». Что этим сказано? Только одно: Мамардашвили не философ. Это нечто маргинальное, экзотическое, что проходит по ведомству чего угодно, только не философии. Ведь там, где начинается самомистификация, будет цирк, спиритический сеанс, позы, конвульсии и т.п. — только не философия, не осуществление разума, всерьез относящегося к самому себе. Но, может быть, философии никакой нет и не было? Или самомистификация — необходимое условие философствования? Тогда, конечно, не о чем спорить. Но гораздо более существенным является у Подороги отмеченный им факт неоднородности в соединении мыслей. Я думаю, что сам этот факт говорит об ином. Во-первых, вспомним, что есть физика, где также используются «глагольные события», и там они также инициируют познавательную метафору — поскольку и в физике нет прямой связи между телесным опытом, свернутым в естественном языке, и смыслом физического эксперимента или теории — хотя вряд ли здесь «повернется язык» сказать, что в физике происходит преодоление отмеченного люфта за счет стыковки «мысль-тело-мысль». Мамардашвили, конечно, не мог не стремиться к трансцендентальной рефлексивности собственного стиля — но только не того, заведомо не интеллектуального стиля, который вы искусным краевым зрением фиксируете здесь, не в смысле превращения «телесной дидактики» в философию. Иначе философия — это самомистификация? Я думаю, что эта стилистика или, точнее, момент стилистики Мамардашвили отвечает одной очень существенной интенции его мысли, больше того, отвечает установке мышления относительно старых тем философии. Стилистика Мамардашвили призвана блокировать проведение трансцендентальной рефлексивности — назовем условно — «классического типа». Что это значит? Это можно понять из положения: трансцендентальное есть символика трансценденции. «Классическим опытом» трансцендентального я называю здесь опыт в предпосылке прямого доступа к трансценденции и, соответственно, допустимость чисто теоретического (без «люфтов») описания трансцендентального. Вот это и есть то, что предполагает известную мистификацию, а возможно, даже самомистификацию. Но как раз Мамардашвили был очень чувствительным к тому, то Кант называл «трансцендентальным паралогизмом», т.е. хорошо понимал, какие натуралистические соблазны встречаются на пути прямого проведения трансцендентальной рефлексии, понимал, что здесь не обойтись без использования инородных, метафорических образов или «фигур речи». Но в отличие от Канта Мамардашвили, что называется, «обнажал прием». Его стиль — это не стиль его любимцев Декарта и Канта. Но ведь и у Канта можно обнаружить немало следов — попыток аргументировать «в обход» трансцендентальной рефлексивности, точнее сказать, попыток провести эту рефлексию и не оставить следов того, что хоть как-то могло быть истолковано как претензия на интеллектуальную интуицию.
Другой вопрос — за счет каких именно приемов совершается такой «обход», какой материал наглядности здесь используется; вполне возможно, что этот материал может включать «глагольные события» или иные корреляты «телесных практик». Поэтому моя интерпретация стиля Мамардашвили ровно обратна Полдороге: как раз трансцендентально-рефлексивная стыковка в развертывании содержания философии была бы мистификацией или самомистификацией. Самомистификация — это крайняя степень ангажированности, а это смерть философии. Конечно, философски продуктивным может быть разный опыт, в том числе и опыт самомистификации, но только не сама мистификация «в момент, когда».
Теперь я остановлюсь еще на одном моменте, который постоянно повторяется у наших собеседников, но только у Подороги — в отличие от Рыклина — этот момент выражен точнее. Речь снова идет об установке на «расколдовываемость», и я хочу в этой связи рассмотреть один пример, который берет Подорога. В одном месте своей книги[23] Мамардашвили приводит пример картины Сезанна для иллюстрации мысли о том, что искусство XX века отказывается рассматривать себя как средство выражения каких-то готовых, уже сложившихся идей или содержаний объективного мира и что, таким образом, само произведение искусства оказывается условием возможности что-то увидеть и понять впервые и тем самым до-определить мир. Эти рассуждения Мамардашвили суть его рефлексия относительно вещей, которым посвящена книга, — то же самое относится и к примеру с Сезанном. Но эти же рассуждения Подорога ошибочно принимает за «расколдовывание» сезанновской картины. А пишет о самом Сезанне столь точно, что хочется воспроизвести отрывок: «В видении сезанновских яблок даны только яблоки. Мастерство Сезанна достигает совершенства в показе события, имя которому — яблоки, его невозможно отрицать с помощью определенной работы рефлексии. Здесь нечего расколдовывать, тем более обращаться к анализу культурных механизмов восприятия самих яблок. Сезанн разрушает традиционную клишированную систему репрезентативных ценностей и перемещает нас своим искусством в то предобразие, где смысл задается, минуя рефлексию. Сезанн демонстрирует нам то, что когда-то в средневековье называли «чтойностью», т.е. такой неизбывной существенностью самой вещи, где вещь избыточна в отношении к своей форме. Яблоки Сезанна как бы говорят нам: «То, что вы видите, есть яблоки»»[24].
Прекрасно! Так мы вам и поверили, господин Сезанн! Ведь стоит только поверить — не встретили бы вас никогда. Одни только яблоки! Или: еще одни яблоки! И их давно бы съели. Интерпретация Подороги и есть пример некоторой самомистификации, полная вовлеченность в которую сделала бы из зрителя марионетку. Конечно, Сезанн — не Кандинский. Он сохраняет относимость формы и вещи, но доводит эту относимость до того предела, где вещь и показывается в своей «чтойности». Но это все же не те яблоки, которые мы видим непосредственно, в бесконечном разнообразии случайных сцеплений наших состояний и «всегда других» яблок. Яблоки Сезанна — это не те яблоки, которые мы видели до того, как — если повезет и событие встречи, совпадение случится — мы увидели сезанновские яблоки. Что значит, что наша встреча с Сезанном состоялась? Это значит, что мы услышали — «чуть» иное, чем говорит Подорога, — утверждение: «Вот что такое яблоки». (Тем более вы сами сослались на средневековую онтологию.) И посмотрев, отвечаем: «Да, это так, теперь я знаю, что такое яблоки, я могу теперь их узнать и в тех вещах, которые для меня по случайности раньше собирались под этим названием». А это уже, конечно же, рефлексия. Более того, можно увеличить ее ранг, если мы введем событие, ответом на которое было бы: «Вот что такое Сезанн». Просто Сезанн рисует не яблоки, а действительно, как говорит Мамардашвили — яблоками… рисует… «чтойность» яблок. Подорога говорит, что «рисование яблоками» означает приписывание художнику операции изначального символизирования. Отвечаю вам: нет, не означает. Яблоки Сезанн рисует кистью. Но «чтойность» яблок — именно яблоками, и в этой метафоре речь идет ведь о модусе и виде запечатленной провокации уже нашего впечатления или разумения. И это не означает никакого символизирования: Сезанн не символизирует, ибо он внутри символа, а мы не расколдовываем, ибо мы еще должны войти в символ, «заколдоваться». К этому я позволю себе привести заключительный пассаж из «Символа…», который почему-то не вошел в текст израильского издания.
«Мы предполагаем, что символ непосредственно понятен тем, кто им оперирует в качестве вещи («символом»-то его называем ведь мы со стороны, извне; в собственной же системе отсчета понимание вовсе не должно содержать его в числе рефлексивных терминов и дополнительно «понимать» механизм его же образования). Более того, он универсален, и универсален именно в своей непосредственности, «внутренне»: понимание не зависит от выбора предметного языка и от различия множества выбранных предметных языков… Ибо понят символ, а не предмет или объект. И поскольку термин «символ» мы применяем в нашей работе в его древнейшем буквальном смысле (дощечка, разломанная на две половинки, соединение которых по разлому есть узнавание-понимание), то самозамкнутый внутренний и далее несводимый (что является признаком бытия) характер символического понимания можно определить и так: соединение половин символа есть факт или событие, независимое от всего остального мира. Наоборот, оно само начинает мир, кристаллизуя его вокруг линии, направленной из точки своей сингулярности (или индивидуальности)».
Итак, соединение половинок становится центром, начиная мир. «Философия по краям» — это смелое предприятие, это атака на «центр», это жизнь без соединенных половинок или — опыт рискованных соединений: здесь можно — как в иной связи говорил Мераб — и стенку дома с задницей лошади соединить. Красота и большой риск в этом. Но без риска — какое же новое дело? Новое здесь, в разговоре, — это встреча с Ним. И разве заранее определен язык свидетельств, пути узнавания-понимания?
***
«…Были и есть счастливейшие люди, у которых всегда были и есть собеседники и, соответственно, нет ни малейшего побуждения к писательству!.. Это гениальнейшие из людей, которые вспоминаются человечеством как почти недосягаемое исключение; это уже не искатели собеседника, а, можно сказать, вечные собеседники для всех, кто потом о них слышали и узнавали. Таковы Сократ из греков и Христос из евреев»[25].
Конечно же, А.А.Ухтомский перепутал здесь Христа из евреев с Мамардашвили из грузин. Я хочу лишь исправить эту ошибку. Да, тут еще упоминается «человечество»… Тогда сказанное звучит как «мы (я, цитирующий), человечество…» Вот уж где не обойтись без «фоноцентризма»: сказанное нужно непременно произносить — как если бы это был тост в честь Мераба Мамардашвили. Тогда язык станет всего лишь языком, произойдет уместная централизация, стенка дома и лошадь расцепятся, голова (некоторым образом) станет важнее руки (не покушаясь на прерогативы последней), а наши блуждания с половинками дощечек не будут вовсе напрасны…
- См.: Рыклин М., Подорога В. Третья возможность метафизики (беседа об одном философском опыте)// «Мысль изреченная…». М.: РОУ, 1991, с. 96—112.↑
- См.: Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание (метафизические рассуждения о сознании, символике и языке). Иерусалим: Малер, 1982.↑
- «Мысль изреченная…», с. 96.↑
- «Символ…», с. 169.↑
- «Символ…», с. 173.↑
- «Символ…», с. 206.↑
- «Человеческая способность к размерности» здесь, мне кажется, близка к тому, что М. ХаЙдеггер в «Sein und eit» обозначает как «Das Da-sein als Befindlichkeit».↑
- «Символ…», с. 244.↑
- «Символ…», с. 245.↑
- «Мысль изреченная…», .с. 96—97.↑
- «Символ…», с. 246.↑
- «Мысль изреченная…», с. 98.↑
- «Символ…», с. 119.↑
- См.: Derrida J. Positions. Paris. Minuit, 1972, p. 14.↑
- См.: Сёрль Дж. Р. Перевернутое слово //«Вопросы философии», № 4, 1992, с. 58—69.↑
- «Мысль изреченная…», с. 99.↑
- «Мысль изреченная…», с. 99.↑
- «Мысль изреченная…», с. 99.↑
- «Мысль изреченная…», с. 99.↑
- «Мысль изреченная…», с. 100—101.↑
- Там же, с. 111.↑
- «Мысль изреченная…», с. 103.↑
- См.: Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси: Мецниереба, 1984, с. 68.↑
- «Мысль изреченная…», с. 106—107.↑
- Ухтомский А.А. Письма //Пути в незнаемое, вып. 10. М.: 1 973, с. 418.↑