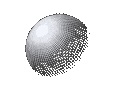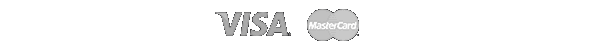Держание: метафорика и смысл
© Виктор Визгин, 1994
Картезианская интродукция
Cравнивая XVII век, представленный Декартом и его другом и корреспондентом Мерсенном, самыми радикальными авангардистами своего времени, маргиналами или почти, давшими этому веку имя «века гениев» [1], и наш XX век, особенно на его излете, понимаешь со всей ясностью и отчетливостью, что мы и они антисимметричны, как начало и конец, совершающие движение в прямо противоположных направлениях. Действительно, даже если они теологи (как Мерсенн) или философы и метафизики (как Декарт), тем не менее, нет для них более задушевного, милого, отдохновительного занятия, чем наука — анализ природы света, звука, падения тел, доказательства теорем, подробности физиологии… Приведу только один поразивший меня факт: во всем знаменитом «Рассуждении о методе» Декарта нет ни одной ссылки на литературу, кроме ссылки на книгу Гарвея «О движении сердца» (De motu cordis). Удивительно, но почти то же самое и в «Страстях души» — и здесь мелькнуло имя Гарвея [2] (наряду с еще одним — Вивесом). Это предпочтение, оказываемое науке в философских трактатах, указывает на то, что сама наука (в ее механистической версии) явилась ответом на основное метафизическое и философское вопрошание о том, как достичь достоверности в наших суждениях о мире. И Гарвея Декарт упоминает чаще других, может быть, именно потому, что его открытие позволило ему самому создать механическую теорию кровообращения, которой он, возможно, гордился не меньше, чем своими метафизическими новациями.
А что такое метафизика Декарта? Это ведь не что иное, как обоснование науки. Цель у Декарта одна — добиться гарантий достоверности знания. Найти основания, источники, начала этой достоверности. Построить метод, эту достоверность обеспечивающий. Сориентировать сознание человека так, чтобы оно было нацелено на истину в суждениях, чтобы знание, в них содержащееся, было действительно знанием, а не заблуждением.
Декарт ищет не философского утешения в тяготах существования (а похоже, он их знал), не «возвышающего обмана», что «тьмы низких истин нам дороже». Он ищет даже не какого-то просветления жизни, мечты (пусть у него кое-что по этой части и имеется, но завязано это у него опять-таки на его науке). Нет, Декарт ищет такого расположения сознания, такой изготовки субъекта, чтобы в науках суждения были достоверными. Он ищет принципы и начала наук, позволяющие сделать выводы из них непоколебимыми (fermes et constantes). Его метафизика – научная, сциентистская, или, лучше сказать, эпистемоцентрическая.
Наконец, сама теология Декарта — это эпистемологическая теология. Бог нужен Декарту не столько для спасения, сколько для того, чтобы с абсолютной надежностью гарантировать достоверность суждений в науке. Паролем божественного присутствия для Декарта служит интуиция ясности и отчетливости, выступающие как примета (и безошибочная, ибо в них проступает сам Бог) достоверности восприятий, в которых они обнаруживаются. Итак, теология Декарта не сотериологическая, не эсхатологическая, а исключительно эпистемологическая, или гносеологическая.
Гносеологизм этой теологии сочетается с идеализмом в том смысле, что для Декарта идея Бога достовернее, чем сам Бог, чем Ею существование. Он еще может представить, что его идее Бога не отвечает наличие такою существа, которое мыслится в этой идее. Но он не может себе представить, чтобы у него не было бы самой идеи Совершенного существа, всеблагого и всемогущего. Сама идея понуждает его признать и существование соответствующего ей объекта.
Познание Бога нужно для того, говорит Декарт, чтобы стали возможны познания других существ, например человека [3].
«Надежность (la certitude) истинности любого знания (la science) зависит, — говорит он, — единственно от познания истинного Бога» [4]. Оснований этой надежности и ищет Декарт в своей теологии и метафизике (они у него перекрываются). Декарт философствует изнутри наук — он уже ученый, уже исследователь и только затем – философ-метафизик. Декарт философствует из контекста науки как своей собственной стихии, выбранной им до всякой метафизики. Сделал так (т.е. полюбил науку, вошел в науку, занялся наукой и т.п.) и затем пришел к метафизике и теологии, чтобы, находясь внутри науки, науку подкрепить, обосновать, усовершенствовать. Если в Средние века философию называли служанкой теологии (ancilla theologiae), то у Декарта философия и сама теология — служанки науки.
В ясных и отчетливых восприятиях, говорит Декарт, присутствует «сила» (force), которая и убеждает меня, что такие восприятия истинны, а следовательно, их объекты действительно существуют. Истина в суждениях и бытие объектов этих суждений — жестко связаны: «Истина одно и то же с бытием», — говорит Декарт (la vérité étant la memê chose avec l’être) [5]. Эта заставляющая сила кроется в разуме, или в разумных основаниях (raisons), и если мы ошибаемся, рассуждает Декарт, то лишь потому, что не дали себе труда найти такое основание (разум вещей). Он, таким образом, разделяет тезис радикальною рационализма в этике: и заблуждение, и грех — равным образом свидетельства того, что разумные основания не найдены. Читая Декарта, можно предположить, что принуждающая к истине и бытию сила разума есть синергийное дело Бога и человека. Эпистемология Декарта, таким образом, динамична, а физика у него, напротив, лишена всякого представления о силах и даже, более того, исключает саму возможность динамики.
Ясные и отчетливые восприятия предметов указывают на то, что они произведены самим Богом. И именно это знание и составляет основу всей эпистемологии Декарта. Так, например, если одна какая-то вещь ясно и отчетливо в моем сознании отделена от некоторой другой, то это так и есть на самом деле, так как произведено самим Богом.
Декартовский Бог не столько даже творец «Я», или «мыслящей вещи», «вещи, которая мыслит» (la chose qui pense), сколько «продлеватель» ее существования, «перебрасыватель» ее через поток времени, через разрыв между двумя его моментами. Вообще, время — одна из главных тем Декарта. Бог длит меня, обеспечивает мою самотождественность, он меня продлевает, или держит: держание и есть продление, преодоление времени в инварианте. И это невозможно без Бога, считает Декарт.
Другой аспект мыслей Декарта о времени – это принцип метафизической необратимости. Декарт часто говорит о такой истине: «То, что однажды было произведено, не может не делаться еще раз», или: «То, что раз было сделано, не может больше не быть сделанным» (ce qui a une fois été fait ne peut plus n’avoir point été fait) [6]. В этой истине содержится тот смысл, который мы привыкли фиксировать поговорками: «что написано пером, не вырубишь топором», или «сделанного не воротишь», или «что сделано, то сделано» и т.п. Это и есть принцип метафизической необратимости – вернуть сделанное невозможно, с ним нельзя не считаться и даже больше: оно не может не повторяться, или, точнее, не может не держаться. Делание (продуцирование) необратимо. Событие нельзя стереть, как если бы в однажды сотворенном была инерция самоподдержания или воспроизводства. Эту истину, говорит Декарт, он знает благодаря «естественному свету» и без всякого содействия со стороны тела. Таким образом, она является «врожденной идеей», или, как потом будут говорить, имеет трансцендентальный характер.
Остается один важный вопрос: а может ли Бог у Декарта отменить эту истину и сделать сделанное Им несделанным? И судя по разным местам декартовских текстов, даже Бог этого не может. Теперь Он не может сделать так, чтобы существовали ненавидящие Его, а раньше (до сотворения людей, любящих Его) мог. Эту мысль Декарта с особым нажимом подчеркивает Мераб Мамардашвили в «Картезианских размышлениях» [7]. И главный вывод из ее обсуждения можно свести к краткой формуле: Бог у Декарта – не обманщик, он держит сотворенное Им. Таким образом, мы видим, что в самый центр размышлений М.М. о Декарте попадает характерное выражение «держание», за которым стоит целая концепция. «Держание» – это слово-ключ, слово-символ, на котором держится сложная и тонкая мыслительная конструкция и ре-конструкция (Декарта) Мамардашвили.
Вначале 1981 года, когда М.М. читались его лекции о Декарте, которые я посещал вместе со многими, это слово врезалось в мое сознание и осело там прочно и с удобствами, свидетельством чему могут служить «Божьекоровcкие рассказы», которые тогда писались [8]. Врезавшись, это слово, однако, не прошло тогда через аналитическую работу рефлексии – оно просто привлекло внимание своим своеобразием, важностью, которая с ним связывалась. Это слово, правда, было воспринято, и все его понимание, которое я бы хотел здесь развить, уже содержалось в этом первовосприятии (о такой возможности говорит в своей книге и М.М., подчеркивая, что знание проникает с подобным восприятием в сознание и латентно живет там до первой его «раскупорки», или, как он говорит, «раскрутки»). Сейчас пробил час таковой — лекции М.М. опубликованы, и можно развернуть и текстуально поддержать это свернутое понимание держания.
Феноменология держания
Я начну с феноменологии держания — именно этот слой значений, их богатая и вряд ли могущая до конца быть развернутой игра и была воспринята мною тогда, когда читались лекции о Декарте. «Держание» выступило прежде всего как «надводная» часть грандиозной цирковой, или спортивно-гимнастической, метафоры мысли. Мераб чаще всего употреблял это выражение (вместе с «кустом» производных от него) для обозначения усильного дления мысли, силового исполнения ее акта. «Держать мысль» означало держать фигуру мысли так, как держит трюк циркач, или выполняет упражнение на кольцах гимнаст. В «держании» сразу же выступила эстетика усилия по обеспечению формы. Поэтому я, думаю, с такой симпатией и воспринял это слово: мне нравился и в самом Мерабе его явно спортивный и эстетически нагруженный облик. Он был похож на умного и опытного боксера.
Кстати, Декарт, его любимый герой, был опытным кавалеристом (cavalier), что означает, что он был одновременно и кавалером, т.е. дворянином, человеком чести, и в то же время просто всадником, уверенно держащимся на лошади и сразу дающим коню верный ход и, обратите внимание, умеющим этот, с первого шага заданный, ход строго выдерживать или держать — вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. В слово «держать» вошло, как мы это видим, и удерживается, таким образом, значение сопротивления всему тому, что грозит нарушить верность первому шагу, верность уже сделанному, нарушить долг перед однажды сотворенной формой.
«Декарт, — отмечает M. M., — это французский cavalier, двинувшийся с места хорошим шагом» [9]. В этой «лошадиной» формуле — самая верная разгадка Декарта, предложенная М.М. Декарт действительно неукоснительно держит шаг. Смотрите, говорит М.М., Лейбниц виляет, а Декарт идет прямо: как положил за точку отсчета различие души и тела, так и выдерживает его – держит мысль до конца и не приспосабливается к интеллектуальной моде, не «ловит» влияний со стороны. У Декарта была удивительная верность начатому ходу мысли. Так, он строго следил, чтобы не допускать в понятие материи никаких «сил», что, напротив, делал, как говорит М.М., «бастардно», Лейбниц. «А Декарт утверждал, что если я мыслю о физическом мире, то не могу допустить никаких внутренних монадологических или чувствующих состояний в вещах» [10]. Физика XX века показала, что в умозрительном плане был прав Декарт. Но, подчеркивает М.М., он был прав и тогда, в XVII веке, ибо он держал свою мысль, держал ее ход, «а ход нужно держать, чтобы мыслить ненаглядно» [11].
Обратим внимание на словечко «ненаглядно». Держания особенно требует именно такая мысль, которая борется с искушениями наглядности, с несдержанностью чувственных реакций, с провокациями внешних влияний, со всеми теми идолами, о которых писал Ф.Бэкон. Держание мысли, по М.М., есть в качестве силы сопротивления сопротивление соблазнам «наглядности». Любой рационализм (и не о — тоже) настаивает именно на этом прежде всего. Можно цитировать Демокрита, можно Декарта, можно Башляра, можно Мамардашвили. Декарт, в частности, говорит, что чувства обманывают — как бы норовят поймать мысль в силки наглядности. Например, солнце нам кажется маленьким, а надо держать мысль, что оно огромно. Квадратная башня, говорит Декарт, кажется издалека круглой, а на самом деле она квадратна. Философ-рационалист — держатель мысли par exellence. А Декарт — самый отменный, самый, быть может, радикальный из рационалистов. И уже поэтому — чемпион по держанию мысли. Под стать ему и М.М. Читая Мамардашвили, представляешь себе работу гимнаста на брусьях или кольцах. Он легко взлетел в воздух и стабильным формообразующим напряжением держит фигуру, выполняет упражнение — спиритуальную экзерцицию или духовную медитацию.
«Держание мысли», о котором с любовью и, я бы сказал, с надеждой говорил М.М., было внедрено в самое «яблочко» его мысли. Мышление было для М.М. трудным, но нужным «номером» в культуре, который, как гимнастическое упражнение, надо выполнять, продлевая через время как состояние и акт. Мысль, по М.М., и акт и состояние. Он использовал оба этих слова. Но главное, что при этом подразумевалось, так это именно держание мысли. И поэтому М.М. говорил, давая понять прямо и косвенно, что мысль трудна для исполнения, что надо держать ее, а это нелегко и удается далеко не всем из тех, кто использует слова, даже те же самые слова, что и действительно держащий мысль. Мысль, говорил он, держится не словом, не его механическим произнесением, не артикуляцией, а держанием самих усилий ее генезиса – усилием, преодолевающим и время и те силы хаоса – а они многочисленны и необозримы, – которые ей всегда угрожают. И поэтому мысль – чудо. Это было глубоким переживанием, пафосом, атмосферу мысли Мераба создающим.
Держание происходит в стихии сознания и стихией сознания. М.М. всегда спорил с натурализмом. Но не принимал и социо-центризма и историцизма. Не был он и богословом и религиозным философом, как это отметил Ж.-П.Вернан. А поэтому он работал в том зазоре между всеми этими членениями, который называется феноменологией, где главными словами выступают «сознание» и «феномен».
Сознание у него было реальностью физического мира, условием его упорядоченности и законосообразия, а поэтому познаваемости. Сознание было живой активностью бытия, волей и разумом сразу. В нем жил тот сверхнатурализм, который давал человеку в его антропологии его бытие в качестве человека. Из природы человек не возникает, подчеркивал М.М. Он возникает «вторым рождением», рождением, как раньше говорили, «в духе».
Молитва — «способ собирания сознания» [12], а духовность — «сосредоточенное и координированное держание условий своего собственного воспроизводства и пребывания в качестве актуального состояния» [13]. Бог же — синоним тех человеческих, или не-природных сил, без которых человек не становится человеком:
«Людьми мы становимся… лишь после того, как совершилось какое-то движение и наше взаимоотношение с вещами, которые не имеют, повторяю, оснований в природном мире: природа человека не рождает. Но поскольку в нашей жизни есть такие силы, они и называют себя «Богом». Или иначе: «Бог» есть самоназвание их действия» [14].
Этот пассаж говорит о том, что М.М. действительно не богослов и не обнаруживает себя верующим христианином. Но зато он обнаруживает себя верящим (в философию) философом, философствующим мудрецом, неутомимо стоящим на своей медитативной вахте. Есть силы антропогенеза — и они называют себя «Богом». Так думает и говорит М.М. Как философский мистик (пусть и рационалист), как свободный мудрец, он должен вывести «Бога» из каких-то им наблюдаемых или переживаемых, а точнее, мыслимых реальностей. И так как «Бог» (здесь кавычки) не вещь, то он — символ этих человекосозидающих сил, символ некоторой сущей не-природной динамики.
М.М. не оборачивает этой формулы («Бог» – самоназвание для некоторых антропогенных сил), превращая ее во фразу: «человек» – самоназвание для некоторых божественных сил или сил теофикации. А ведь, вообще говоря, обе фразы равно должны звучать, если нам не нужен даже след антропологического редукционизма фейербахианского типа. Строго говоря, феноменология должна, как нам это представляется, наделить равными правами и противоположный редукционизм — теологический, которому и отвечает эта формула человека как самоназвания божественных сил. Так что создается впечатление, что от корешков фейербахианства М.М. не вполне свободен, что некий автоматизм «гуманизма» остается. Человека М.М. не кавычит, а вот с Богом это случается. Вот и вся разница на уровне пунктуации.
Феноменологию М.М. можно рассматривать как своего рода постмарксистский вариант той символологии, которую развивала религиозная философия в России, особенно П.А.Флоренский и А.ФЛосев. В ней еще звучит ушедшая с марксизмом диалектика [15]. «Феномен, — говорит М.М., – конечное явление бесконечного» [16]. Но если диалектика сорвалась в догматическое законоучение, то феноменология обещает живой контакт с живым сознанием, с его психо-сверхпсихо-экзерцициями, с медитативной практикой и необозримым опытом, щедрым на чувство если и не возможной удачи в «теофикации», то, по крайней мере, удачи в деле «онтофикации» – достижения в феномене сознания условия совпадения его (при непременном условии его держания) с бытием.
Держание мысли – это у М.М. верность ее ходу, ее упорство и несбиваемость. Такое значение держания он рассматривает, сравнивая Декарта и Лейбница. Декарт для него – образец держания, этакий супергимнаст мысли. Он держит мысль максимально четко и строго. А Лейбниц ви/х/ляет, и если он выигрывает при этом, то лишь временно: держание мысли всегда стоит больше, чем ви/х/ляние, называемое (или: вызываемое) приспособлением.
Держание – верность выбору. Выбранной позиции. Это ясность и отчетливость. Чистота мыслительной фигуры достигается именно держанием. Мысли – темпоральные транстемпоральности. И это свое качество, или даже сущность, они выполняют благодаря держанию их мыслящим, или их самодержанию (почти: самодержавию).
Вот как рисует М. декартово обоснование держания:
«Он говорил: если я уступлю фактам, то перестану мыслить. Разрушится весь ход моей мысли, а ход нужно держать, чтобы мыслить ненаглядно» [17].
Речь здесь идет о чистоте физики как теории, лишенной концепции внутренних сил, монад и т.п., на что пошел Лейбниц и не пошел Декарт, оставшийся в трактовке материи при своей протяженности.
Держание мысли позволяет ей сбыться. «Понятие, – говорит М.М., – держится только на движении, на напряженном усилии». Изначальность движения, своего рода «принцип инерции движения» в «философии мысли» (так именовал М.М. философию Декарта [18] характеризует и феноменологию Мамардашвили. Философия как искусство понятий выступает, по М.М., в нашей попытке его «спортивного» прочтения как своего рода концептуального многоборья, как некоего интеллектуального биатлона. Надо держать множество самых разных полей игры, пространств состязания — и только при условии держания их всех можно оказаться настоящим философом.
Держание мысли — сопротивление. Это очевидно уже из аналитики самой метафоры, которую мы предложили как шифр для чтения мысли М.М.: гимнаст держит свой вес, одолевая силу тяжести. Какую тяжесть одолевает мыслитель — такой, как Декарт или сам Мамардашвили? Это тяжесть, или сила, «наглядности» прежде всего. Воспроизведение, или возрождение, мысли вопреки силе наглядности «нужно, – говорит М.М., – потому, что понимаем мы только нашим безобъектным, а не предметным сознанием». Держание, таким образом, это способ войти в пространство беспредметного (или безобъектного – здесь М.М. различия не проводит) сознания, которое есть главное условие понимания вообще [19]. А мыслитель для него – «пониматель». Он никуда не уходит от этой классики и ищет, как и философия встарь, условий (трансцендентальных) возможности понимания. Держать мысль — значит держать пространство понимания, держать сознание, иными словами, в чистоте (ибо беспредметно только чистое сознание). Но чистое сознание – не негативная пустота, не ничто голого отрицания. Не нечто безвидное и пустое. Нет. Чистое сознание имеет свою структуру, свои формы. И поэтому держание (и под-держание) чистоты сознания есть в то же время и поддержание этих форм, этой структуры. В частности, у Декарта принцип когито (cogito ergo sum; je pense donc je suis) и задает структуру чистого сознания.
Держание и время
Феномен держания обрисован. Эстетика его понятна: это эстетика усилия, динамики мысли. Заметим, что здесь, в сфере духа (у М.М. эта сфера называется обычно сознанием), царства динамизма, идет схватка сил, в то время как на противоположном полюсе — в мире телесности — нет (по Декарту) никакой динамики: понятие силы сюда нельзя допустить, раз мы держим мысль, придерживаясь различения двух субстанций – мыслящей и протяженной.
Приведем свидетельство такого динамического устроения мира «вещи, которая мыслит», у Декарта. У него разум, или разумное основание, наделен принуждающей, обязывающей силой: «Только те вещи, которые я воспринимаю ясно и отчетливо, наделены силой, чтобы меня полностью убедить» [20]. Эта принуждающая сила рассматривается Декартом прежде всего на примерах геометрических — таковы вообще вещи математические, все те предметы, если говорить о более широком классе, которые раскрываются «естественным светом» и совершенно не зависят от тела. Это и есть сфера «врожденных» или, как уточняет М.М., «со-рожденных» идей, сфера трансценденталий, выступающих условиями самой возможности познания вообще и вещей телесных в том числе.
Теперь пришла пора ввести в аналитику держания новое измерение — время. Без него оно непонятно. Ведь очевидно, что держание мысли есть схватка со временем, а не только с наглядностью, с ее миром, где оно, конечно, присутствует, как на своем «естественном месте». Этот пласт содержания держания (это не просто /пр/оговорка, а целая тема впереди) подробно проработан вслед за Декартом М.М. У Декарта нам важно отметить два связанных между собой момента. Первое — это принцип метафизической необратимости событий, действий, деланий, или деяний. Идея принципа проста — свершившегося не сотрешь, событийная структура необратима [21]. И второй момент: непрерывное творение. По сути дела, это одно и то же: раз что-то сотворено, то оно «держится» Богом как его творцом. И у Декарта Бог не столько «одноразовый» творец (как в деизме), сколько поддержатель существований, Им уже (однажды) созданных. Обе эти истины, говорит Декарт, есть такие истины, которые мы знаем (даже если и не отдаем в том, что мы их знаем, себе отчета) благодаря «естественному свету» разума и без всякой помощи со стороны тела. И конечно же, эти истины — важнейшие условия нашего познания, самой его возможности. Мы уже заранее знаем, что все, что мы можем в мире открыть, будет подчиняться принципу метафизической необратимости, который основательнее самого принципа причинности (его связь с ним интуитивно очевидна).
Что-то переносит нас через пропасть времени. И что это может быть? Бог! Вот образец держателя – и мыслей и существований сразу. Это Он делает так, что мы, Им созданные, вечером заснув, утром просыпаемся теми же самыми. Он нас держит, как держит все свое творение. Вот как об том пишет М.М.:
«Мысль Декарта все время движется в таком режиме: если я буду удостоен чести существовать в следующий момент времени… Образ смерти есть напоминание, указание на то, что если что-то случается и держится во времени, то для этого должны быть какие-то другие основания, чем сам временной поток» [22].
Не надо думать, что Мамардашвили не осознавал этого ключевого слова своей концепции. Нет, он отдавал себе ясный отчет в его значении и рефлектировал именно как ключевое. Вот как он сам определяет смысл держания:
«Ты должен тянуть за собой сделанное, то, как сделал. Это значит, что мысль (дух) есть концентрация и координированное держание вместе условий своего собственного воспроизводства и повторения.., интуиция возможности «еще одного раза». Того, что могло быть только впервые и только однажды». И тут же далее: «Раз так сделалось, то это нужно держать» [23].
И именно это и делает прежде всего и прежде всех сам Бог! Первоакт Его творчества абсолютно свободен — он не подчиняется никаким законам, в нем нет никакой необходимости. Мераб много об этом говорит, хотя и не называет этот теологический принцип принятым выражением «волюнтаристская теология», как это делается историками мысли XVII века, например, Клаареном [24]. Излагая Декарта, М.М. пишет: «В Боге, говорил он, нет никакого понятия необходимости. На уровне творения нет законов» [25]. Эта мысль так поразила Мераба (к рабству законов природы нас приучил не только марксизм в его «диалектико-природной» версии, но и долгая традиция натурализма и весь процесс новоевропейского развития, верстаемый то под нигилизм, как это сделал Ницше, то под дехристианизацию и секуляризацию, как это делается многими), что он не устает ее варьировать на разные лады и рассматривает ответ Декарта на вопрос «а мог бы Бог сотворить ненавидящих Его?» (нет, отвечает Декарт, «теперь не мог бы») как совершенно гениальный. Но Бог просто держит сделанное Им же! И это и только это имеет в виду в своем ответе Декарт. И в этом усматривает поступь гения М.М. Первым актом Богтворит то, что Он творит, не сообразуясь при этом (в противовес платоновскому демиургу) ни с какими разумными основаниями, ни с идеями «блага», «красоты» и т.п. Но потом, во втором шаге (так говорит Мераб, держа или выдерживая эту кавалерийскую метафору), Он уже связан тем, что и как Он сделал в первом шаге. Он уже сделал так, чтобы Его любили. Поезд ушел. И поэтому «теперь» Он не может. Это удивительно на самом деле, потому что, вроде бы, для Бога нет времени как внешнего условия: Он и его создал. Но раз создал, то надо подчиняться своему созданию! И для Бога (подумайте только, для кого!), оказывается, существует «теперь»…
Итак, Бог держит само время. И во времени держит временные существа. Так воспроизводится порядок мира, его регулярность (основное условие его познаваемости), иными словами, сам мир. Бог выступает Все-держителем, даже – Все-держателем. Здесь, на этом витке анализа держания, мы вплыли в самую сердцевину этого понятия-потока. В поле нашего анализа попала волюнтаристская теология, давшая богословские основания для новой науки — для ее эмпирического и экспериментального ядра [26]. Этот сюжет Мераб прямо не обсуждает, хотя косвенные намеки позволяют нам эту связь подтвердить и его мыслью.
Выше мы уже сказали, что у Декарта разум как основание наделен силой – заставляющей и принуждающей. Держание, это очевидно, не может осуществляться без соответствующей силы или усилия. В «Картезианских размышлениях» М.М. эти два слова (держание и сила) легко замещают друг друга, выступая почти как синонимы. Так, он говорит, что акт мысли — это ее усильное возобновление:
«Декарт был одним из тех редких мыслителей (а они, слава Богу, были), которые имели силу мыслить ненаглядно. Силу – держать мысль. А держать мысль значит постоянно, снова и снова возрождать ее. А возрождать нужно, потому что понимаем мы только нашим безобъектным, а не предметным сознанием» [27].
Здесь помимо уже отмеченного момента держания как сопротивления наглядности и ее искушениям выступает и второй важный момент: то, что у Декарта называется разумом, умом, душой, у М.М. называется — и он держится за это слово – сознанием. То, что держит мысль (и мысль основополагающую, мысль мыслей, саму ее возможность, или условие), есть сознание. Именно сознание наделено у М.М. силой держать мысль. Та динамика, которую мы отметили у Декарта, у М.М. есть динамика сознания. У самого Декарта, во всяком случае в его «Метафизических размышлениях», нет даже упоминания «сознания». Там есть «разум», есть «понимание» (l’entendement), «мысль» и «душа», но «сознания» нет. М.М. об этом не говорит. Но, на наш взгляд, этот терминологический сдвиг достоин внимания и не лишен интереса. Декарт в качестве сводного генерализирующего понятия для всех ментальных актов выбирает термин «мышление», или «мысль». У него и воображение, и ощущение, и воление выступают разновидностями мысли. Вот как он определяет «мыслящую вещь»: «Это вещь, которая понимает, схватывает или постигает (consoit), утверждает, отрицает, хочет, не хочет, а также воображает и чувствует». К мышлению Декарт относит вообще всю эмотивную и волевую сферы, не говоря уже о когнитивной. Все эти сферы и их модусы — «различные способы мыслить» [28]. Делает он это по простой причине: к мышлению следует относить все, что не есть «протяжение». Декарт действительно крепко держит мысль, твердо сидит в «седле» выбранного им основного различения.
Помимо держания Декартом ею различения души и тела как мысли и протяжения – это для нас странное, на первый взгляд, отождествление эмотивной и когитальной сфер оправдано, видимо, еще и таким обстоятельством. Действительно, не только эмоции, например, любовь, нельзя вызвать произвольным актом волевого начинания (хочу любить — и полюбил), но и мысли нельзя вызвать произвольно (хочу помыслить — и помыслил). Как и эмоции, как и ощущения, мысли случаются (или не случаются), возникают (или же нет). И в этом смысле между эстезисом и ноэзисом, между рацио и эмоцио разницы нет.
Декарт, безусловно, философ сознания, у него истины и мысли проходят через рефлексию и тем самым удостоверены в качестве таковых стихией сознания. Подведем итог анализу держания в связи со временем у М.М. в его продумывании декартовской мысли. Держание, по М.М., можно определить как усильное дление (очевидно, через время или во времени) сознанием и в сознании мыслей, что обеспечивает целостность бытия, включающего в себя сознание бытия, и позволяет объективно описывать мир и познавать его (образцом здесь для М.М. выступает физика). Подчеркнем, что при этом имеется в виду дление прежде всего мыслей ненаглядных, даже противо-наглядных, порой контрфактуальных — «трансцендентальных», - тех, о которых Декарт говорит, что они даны ему исключительно «естественным светом» разума без всякого содействия тела.
Держание и содержание
Связи времени и мысли настолько важны, что стоит на них подзадержаться. Декарт подчеркнул эту связь (темпоральность мысли как таковой) в своем ответе Бурману [29]. Вот как его комментирует М.М.:
Мысль – «может совершаться только во времени. В том смысле, что ведь нужно пребыть в мысли достаточное время, удержаться в ней, имея в виду ту длительность, о которой я уже говорил, что это основное онтологическое переживание Декарта. Что в этой длительности могут пребывать только такие вещи, пребывание которых во времени является дополнительной посылкой по отношению к их содержанию. То есть их содержание не содержит признака дления или воспроизводства. И это живое декартовское ощущение, что мысли именно пребывают, держатся в мире, проходит через все, о чем Декарт думал и говорил» [30].
Я хочу попробовать возразить или даже только усомниться в том, что содержание мыслей никак не связано с их способностью держаться.
Прежде всего — аналогия. Декарт упорно называет мысль «вещью». Вещи мира, физические объекты держатся в мире именно своим содержанием. И выявлением механики и физики этой связи занята наука. Одни тела таковы по своему содержанию, что преодолевают барьер времени одной высоты, другие — другой. Но всегда их содержание и есть то, что определяет уровень их держания («время жизни», иными словами). Тема /само/держания природных вещей — главная в натурфилософии и в естествознании. В частности, это — основная тема атомизма. Сам атомизм был придуман для того, чтобы объяснить эмпирический факт/само/держания вещей, их родовое самосохранение, их воспроизводство. И эту устойчивость /макро/вещей мысль атомиста воспроизводит или конструирует — и тем самым объясняет на атомном уровне, который для этого и вводится. Атомы — это устои устойчивости, «держалки» держания, если позволить себе игру слов. Конечно, атомизм не решил («окончательно») проблему времени и формы, времени и вещи: он ее перенес в атом, определив его как самодержащуюся и держащуюся абсолютно вещь.
В мире мысли тоже ведь есть свои атомы — «держалки». И только об этом, только о них и идет речь и у Декарта, и у Мамардашвили. Он и сам вводит своего рода атомистическую гипотезу в анализ сознания [31]. И то, что в уме держится, обнаруживает связь своей держательной силы со своим содержанием. Здесь сами слова указывают на связь их значений или содержаний – держание и содержание.
Я приведу в пользу тезиса о наличии такой связи один психологический аргумент, почерпнутый из элементарного житейского случая. Я забыл мысль, которая мне интересна. И поэтому я запомнил, что я ее забыл. Но ничего, увы, кроме факта забвения, я не сумел запомнить. Казалось бы, чистый след. Ситуация — для меня во всяком случае – заурядная. Но я себя утешаю: «Если мысль действительно интересная, если она содержательная, то она сама собой вспомнится!» Видите, я почти машинально уповаю на связь содержания забытой мысли с ее способностью к/само/держанию, с ее устойчивостью во времени, с ее воспроизводимостью. Если она содержательна, то удержится, всплывет, сама (сама по себе) воспроизведет себя. Ведь, думаю дальше, если мысль значительна и содержательна, то сами условия жизни и мира, законы связи меня и большого существования таковы, что они снова эту, именно эту же самую, мысль воспроизведут. И я не ошибался в своей надежде на возврат содержательной мысли и поэтому, забыв ее, оставался спокоен, что, кстати, тоже (я имею в виду спокойствие) одно из условий держания и воспроизводства мыслей, особенно содержательных и интересных.
Отсюда можно заключить, что мысли и вещи – схожи. И те, и другие таковы, что их содержания связаны с мерой их /само/держания, или устойчивости. И где-то устойчивость вещей и устойчивость мыслей — мыслей о них – совпадают. В силу этого самой устойчивой мыслью является мысль о самой устойчивой «вещи». А это, несомненно, и самая содержательная «вещь». Устойчив атом. Но столь же устойчив и атомизм как мысль об атомах. Предел этой связи – Бог: предел самодержания и вседержания. Атомы – природные «боги», или боги натурализма. И неудивительно, что проработка темы держания за пределами натурализма как философской позиции приводит к Богу (как это и имеет место у Декарта).
Интенция на содержание – противовременная интенция. Содержание по определению ортогонально плоскости временного потока. И основания держания мыслей лежат вне этого потока. Об этом ясно говорится и у М.М.[32] Это кажется банальным (или тавтологичным, в том смысле, как это выражение использует М.М.): во времени держится то, что имеет вневременные корни. А они-то и дают нам содержание того, что ими держится. Поэтому, если мы храним, держим саму эту способность к вневременной интенции сознания, то нам нечего особенно бояться забывания интересных и содержательных мыслей – они действительно вернутся.
Язык нам усиленно подсказывает эту связь содержания с держанием как с устойчивостью во времени. Так, например, мы говорим, что если дом хорошо содержится, то он и долго будет держаться. Содержание здесь понимается как уход, забота, как обставление и обновление условий сохранения или самодержания вещи. Другой пример: у М.М. часто говорится о «собранном субъекте»: «Собранный субъект, – говорит он, – поставил себя там, где производятся события» [33]. «Собранность» означает, что субъект хорошо содержит себя – и хорошо держит, держа себя там, где держатся сами события – всплески нового, матрицы новых держаний. «Собранный» вообще означает «хорошо держащийся» человек, который держит свою форму – как внешнюю (опрятность костюма, прически и т.п.), так и внутреннюю – он устойчив в мыслях, решителен в суждениях, дающих основания (резоны, полные силы) для оформления всего его поведения, всей линии его жизни. Чувствуется, что Декарт был именно таким — и Мераб Мамардашвили тоже.
Надо держаться держания, чтобы одолеть поток времени. Держание – первый по рангу императив «мыслящей вещи»: «Обратите внимание, — говорит М.М., – на эту тонкую нить (имеется в виду мысль трудная, редкая, капризная, но существенная, или содержательная. — В.В.), которая рвется на каждом шагу, а ее надо держать [34]. Иными словами, есть мысли важные, у которых нет собственного запаса прочности, хотя они и содержательны. Это как раз обратный пример тому, о чем мы говорили выше. И вот такие мысли надо поддержать, подхватить, воспроизвести, закрепить. Виртуоз в этом отношении – Марсель Пруст, держатель самых трудноуловимых качаний сознания.
Имея в виду этот случай, фиксируемый в языке, мы должны спросить: так зависит все-таки или же нет способность мысли держаться от ее содержания? Аргумент в пользу наличия такой связи нами уже высказан: это наше убеждение, что забытая, но содержательная мысль вспоминается – «случается» еще раз. Аргумент против: «тонкие» мысли легко «рвутся». «Тонкие» здесь означает, конечно, интересные и содержательные. Но не только это и не в первую очередь. «Тонкость» (легкость упускания мысли) указывает на редкость мысли и трудности с «машиной» по ее производству. «Место генерации мысли» (некая, скажем так, ситуативная горловина для возникновения именно этой тонкой мысли) само еще едва «проклюнулось», и мысль только-только показалась, как бы мигнув ростками своей возможности быть и держаться. Но так как она «мигнула» на вираже еще не сложившейся или еще не поставленной машины мыслегенеза, то тут же забылась, исчезла, скрылась в «подсознании». Иными словами: эта ситуация с констатируемым долгом спасения, т.е. держания и поддержания слабых, тонких, паутинно капризных мыслей, имеет своей основой неотлаженность «машины» мыслегенеза. Вообще говоря, у каждой мысли имеется своя индивидуальная, так сказать, по особому заказу изготовленная «машина» мыслегенеза.
Принимая это во внимание, можно сказать теперь, как же обстоит дело с различием двух разбираемых здесь случаев, столкновение которых создало трудность с определением наличия связи держания и содержания мысли. Эта трудность порождена разными ситуациями. В первом случае (данная связь несомненно существует, забытая мысль, если она содержательна, вспомнится или вернется сама собой) мы имеем налаженную мыслегенетическую машину — и уверенность в ней, в ее надежности мы и ощущаем как наше предчувствие содержательности ускользнувшей мысли. Во втором случае (тонкие мысли требуют поддержки и особой концентрации для их «улавливания», забытая тонкая мысль может и не вернуться сама собой, несмотря на свою ценность или содержательность) мы имеем обратную ситуацию: машина генезиса мысли, той, что ускользнула, еще не отлажена. Она сама еще только создается. В том числе и самими мыслями. И вот на основе такой ее многоусловности и на том, что сами условия — условны, от этого и зависит, что эти машины произведут, — вот в такой ситуации нелинейного мыслегенеза мы и декларируем этот императив мыслящего: «Внимание: мысль архитонка! Лови ее! Держи ее!»
Подчеркнем такой момент, порождающий эту апорию связи держания и содержания мысли: мышление само участвует в формировании своего горизонта, задающего условия и основные формы его содержания. Если мы понимаем горизонт, или, лучше сказать, знаем его, то мысль, в нем возникающая, содержательно нам /при/открывается – пусть как бы крупномасштабно, в своем полногабаритном облике, без деталей.
Держание, эта, казалось бы, чисто формальная процедура, извне налагаемая на содержание мысли, оказывается, таким образом, связанной с ее содержательностью. Более того, такие как бы формальные лишь процедуры, их целостный ансамбль и образуют, в конце концов, содержание мысли. В школьной эстетике это фиксируется штампом: форма содержательна. Но помыслить эту содержательность мыслительных форм не столь просто, как прокатиться автоматически по словам, по механике сцепляемых привычкой или штампом артикуляций. По отношению к этой механике оригинальная аутентичная мысль всегда «топорщится», идет против «ворса» или течения. И это-то и ощущается как ее трудность, тонкость и содержательность.
Анализируя феномен держания мысли, мы различаем прежде всего два основных вида держания — негативное, или косвенное, и позитивное, или прямое. Действительно, держание мысли может быть отрицательным: мы держим в порядке машину мыслегенеза, мы держим горизонт возникновения мысли, мы держим двери для мысли открытой. Мы, видите ли, держим. Но не саму мысль, выполняя ее непосредственно прямым актом. Мы держим мысль косвенно, т.е. только то пространство, в которое она может заскочить (а может, конечно, не заскочить), в котором она может появиться или же не появиться. Это – приглашающее держание: гость может и не придти, но мы честно прошли свою часть пути навстречу ему.
Второй вывод держания мысли: держание прямое, когда вы выполняете конкретную мысль, мыслите ее, попросту говоря. Так, например, мы мыслим теорему в напряженных поисках ее доказательства. Или совершаем какое-то другое фактуальное держание мысли, равное ее исполнению, совершению акта мысли позитивно. Если первый вид держания — апофатическое мысле держание, то второй, соответственно, катафатическое.
Философема держания под прямым воздействием лекций М.М. пронизывает собой некоторые из божьекоровcких рассказов. Например, в рассказе «Гипноман Пенопластов» мы читаем: «В Бога Леопольд не то что не верил, а не держал его. Бог был волен заскочить к Леопольду или не заскочить – Леопольд его не держал. Он только не закрывал для Бога дверей — пусть будет дверь открыта!» Но незакрывание двери можно рассматривать как первый вид держания — косвенный. Здесь держится дверь открытой, держатся условия возможности присутствия того, что прямо, непосредственно, действительно не держится. В этом рассказе используется богатая семантика держания и, кроме выше данной нами типологии основных видов держания, выявляется персоно-генерирующая функция держания, которую можно выразить такой парафразой: скажи мне, что ты держишь, и я скажу, кто ты. Герой нашего рассказа, о котором здесь идет речь, держит всем своим существом сны: «Но что же все-таки держало это Недержало?» – спросит рассерженный читатель. Прикрываясь ладошкой от чужого сглазу, придерживал Леопольд сны» [35]. Сущность лица или личности в том, что она всеми силами держит – и эта сущность самым непосредственным образом дана в имени (анализ связи имени с ядром личности, с основой ее духовной субстанции, дает, например, П.Флоренский) [36]. Поэтому «Гипноман» это не внешняя характеристика Пенопластова, а его подлинное имя, хотя мелькнуло оно в отношении Пенопластова только в названии рассказа. В другом рассказе Гермес Пупырышкин, хотя и зовут его Джоном, на самом деле Гермес, так как держит и держится он исключительно своей провиденциальной и герметической миссией [37].
Сила держания, гнездящаяся (по М.М.) в сознании, есть одновременно сила мысли и сила бытия. Прежде всего — сила бытия мысли. А потом — и не только мысли. И здесь развивается им, вслед за Декартом, тема ошибки, срыва, греха — не-бытия. По Декарту, наша воля имеет больший диапазон возможностей для своих актов, чем разум. И это входит в само понятие воли: «Кажется, — говорит Декарт об этом понятии, — что ее (т.е. воли — В.В.) природа такова, что у нее ничего нельзя отнять без того, чтобы ее не разрушить» [38]. И Бог даже соучаствует в актах этой «широкой» воли – но не в тех, которыми она может вводить в заблуждение: здесь повинны только мы сами, имеющие конечный разум и не успевающие и просто не могущие предвидеть все. Такова, вкратце, теория заблуждений Декарта.
М.М. развивает эту же теорию, приводя пример с болезнью пляски св. Витта: здесь воля поставлена в жесткий режим автомата, а разум молчит. Это – предельный случай ошибки, или срыва. В идеале разум должен, так думает Декарт, опережать волю, обладая в своем составе способностью подталкивать ее – об этой силе разума мы уже говорили. «Где эти механические сцепления,- спрашивает М.М., приведя свой пример с наблюдаемым им в аэропорту Тбилиси приступом болезни св. Витта, – могут что-то производить? Там, где нет позитивного действия Бога, говорит Декарт. Или позитивного усилия, как сказали бы мы» [39]. Усилия сознания. Аналогом декартова Бога выступает у М.М. держание мысли сознанием. От механической, т.е. неразумной, необходимости воли с ее неминуемыми ошибками спасает или Бог (Декарт), или усилие сознания, его «держательная» сила (М.М.). Сознание должно доставить себя туда, где его до того не было (здесь следует у М.М. цитата из Фрейда). Как и Декарт, как и Фрейд, Мамардашвили рационалист — рационалист сознания. Рационалист рационального сознания, сознательно поставивший своей целью доставить сознание туда, где его раньше не было.
Мысли держатся там и тогда, где и когда содержится сама машина по их производству и воспроизводству. Так можно было бы подытожить эти размышления о связи содержания и держания мыслей, навеянные союзом М.М. и Декарта. И напоследок этой темы еще одна догадка: со-держание мыслей указывает на со-вместность их держания. Если мысль держится (сама собой, так сказать, хотя для этого и выполняется соответствующее усилие), то это означает, что в ее содержании участвует что-то иное, чем я сам, ее мыслящий. Это другое — бытие, вещи вне меня, другие сознания, сам Бог, наконец (в последнем случае можно говорить о синергетике человеческого и божественного актов).
Держание как жизнь, как интуиция и долг
На анализе держания стоит задержаться, так как уже сейчас ясно, насколько здесь мы попадаем в эпицентр мысли — и Декарта, и М.М. Рассмотрим один частный смысл этого выражения как типичного для философской мысли Мераба Мамардашвили. Речь идет о держании (вместе) противоположностей – coincidentia oppositorum.
М.М. говорит о держании как об удержании обоих концов «Гераклитова лука» [40]. Этот образ и эта тема проходят по всем его «Размышлениям». В другом месте он говорит о держании мысли в подвесе или зависе между двумя пропастями или безднами. Кстати, сам этот образ частично идет прямо от Декарта, у которого человек определен как «середина» (milieu) между Богом и ничто: «Я, — говорит Декарт, — наподобие середины между Богом и небытием» [41]. В этом смысле держание, о котором говорит М.М., есть прежде всего удерживание Целого, есть образ предельного напряжения — и натяжения, связывающего разошедшиеся полюса Единого. Такое удерживание вместе, в одной «связке» противоположностей обеспечивает разность потенциалов, создающую динамическое поле жизни и сознания (кстати, о поле сознания все время говорит М.М., подчеркивая физический смысл его, его онтологический статус). Поэтому фигура «держания» есть метафора жизни, а затем уже сознания и с ним условий мышления и познания. Метафора «лука» у самого Гераклита была метафорой целостной жизни как жизни-смерти. И поэтому спортивно-силовая фигура «держания» есть прежде всего метафора одолевающей временной поток жизни (здесь вспоминается Марсель Пруст, имя которого мелькает на страницах «Картезианских размышлений», как бы указывая на последующие, прустовские, медитации).
Элементарным примером такого витального смысла «держания» выступает растение. Растение – мост, связывающий два несоединимых без его посредничества «берега» — звонкую чистоту блистательного эфира, с одной стороны, а с другой, хтонические мраки и мороки матери-сыра-земли. Кроны и корни, иными словами. И если нарушено это витальное равновесие космического «лука», если повреждена одна из его «частей», то гибнет все растение как целое. В «норме» же оно стягивает вместе разошедшиеся полюса целого, небо и землю, и как живое целое само входит в жизнь большую, его, единичное растение, объемлющую.
Связь этой метафоры удерживания вместе противоположностей с жизнью и духом открыл для философии вслед за Гераклитом Гегель (дух «достигает своей истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности» [42]). Дух есть «стихия», выдерживающая свою собственную смерть, ибо дух есть живая истина, а истина есть целое. Эта гегелевская философема идет от мистики (духа), чего, вообще говоря, нет у Декарта и что чуждо и Мамардашвили с его неорационалистическими и феноменологическими пристрастиями. Но, тем не менее, этот смысл, скрывающийся в слове «жизнь», нужен М.М., ион выполняет свою функцию в его «Размышлениях», чего не скажешь о Декарте, у которого жизнь — объект познания, подлежащий строго выдержанной геометризации, о чем говорит М.М. в трех последних своих «Размышлениях», в которых анализируется Декартов трактат «Страсти души».
«Собранный субъект» у М.М. — это субъект, держащий полюса отношения, которые связывает ум как рацио, определяемое как середина между невыразимостью и выразимым [43]. «Собранный субъект» тоже, таким образом, причастен к этой метафоре лука, будучи хорошим лучником, сильным лукодержателем.
Отметим еще один частный аспект семантики держания у М.М. Это связь держания и интуиции. «Все время должна работать интуиция, — говорит М.М., — потому что только она держит понимание» [44]. Интуиция выступает как главная «держалка», или опора, понимания.
Здесь я позволю себе отвлечься от текста «Картезианских размышлений» и вспомнить то непосредственное впечатление, которое производил Мамардашвили-лектор на слушавших его лекции, в частности, лично на меня. Мераб обладал удивительной способностью держать высокий уровень мысли, сам эфир мысли, пространство, где она в полную силу может выполняться и которое она может наполнять. Это как раз связано с понятием интуиции как чего-то противоположного дискурсии, логико-понятийной связке рассуждений. То, что открывалось слушателям М.М. в этом впечатлении, можно сопоставить с феноменологической редукцией. Такой термин здесь уместен. Даже если слушающие не были посвящены в терминологический аппарат современной философии, они все равно как бы физически ощущали эту на их слуху производимую расчистку сознания, ассоциируемую именно со специфическим усилием – с феноменом держания, а значит, и с феноменом подъема и усилия этот достигнутый подъем сохранить — продержать. И когда неходившие на лекции М.М. спрашивали: «А какие идеи высказывал М.М.?», то ответить было нелегко. И не потому, что идей в них не высказывалось. Нет, с этим все было в порядке. Порой даже – преизбыток идей (как о том можно судить, имея теперь перед собой текст «Картезианских размышлений»). Но главное все же было не в них, а в самой атмосфере, где могут возникать и держаться мысли и именно философские мысли. Попросту говоря, поражала именно эта самодельная, творимая на слуху, в поле вашего внимания, воздушная стихия настоящей философии – вот она, лети сам! Возникало что-то вроде того «накаченного состояния», о котором говорит М.М., рассказывая о декартовой теории зрительного восприятия.
После этого отступления мы бы завершили наш далеко не полный анализ метафорики держания в «Картезианских размышлениях» М.М. указанием на его деонтологический смысл. Держание мысли — это наш человеческий долг. Перед миром. Перед нами самими. Перед другими людьми. Перед Богом, наконец. Этос держания мысли и поступка, держания как долга, держания как императива слышен повсюду, где М.М. говорит о нем. Держание — верность. Верность выбору, сделанному уже. Верность мысли. «Раз так сделалось, то это нужно держать — говорит М.М. [45] Сам Бог, по Декарту, держится тою, что Он сделал по чистому желанию, но после этого и для Него — время долга. И поэтому Он «теперь» (это слово Мераб подчеркивает) не может сделать того, что Он мог до первого шага (тогда). Так и возникают законы: потому что Бог — не обманщик и держится Им же сделанного, Им же пожеланного. Держание – добродетель и жизни, и мысли. Добродетель сознания. Если мысль (сознание) держит себя, то она — не сбиваема, но сбываема. И Мераб часто — в разговорах особенно, да и в лекциях тоже — говорил о том, что назначение человека – сбыться, стать, а для этого прежде всего надо держать сознание – поступки, дела, мысли.
Держание – элементарный долг мыслящего по отношению к мысли. «Назвался груздем – полезай в кузов!» Держание мысли - профессиональное требование к философам. Ко всем, кто мыслит и делает мышление главным занятием своей жизни. Эту тему в семантике держания можно сформулировать императивом: «Держи мысль, о, мыслящий!»
«Все нужно делать заново и сначала!» – восклицает М.М. [46] И в этом сознании-императиве — главный пафос книги, та цель, в которую целится лучник, натягивающий лук Гераклита в руках Сознания. Гении вообще большие держатели. Они и собиратели, собирающие собранно с самого начала то, что сделано до них поколениями мыслителей и ученых. Они при этом, возможно, и не так много читают. Таков и Декарт (М.М. говорит, что он вряд ли читал, например, Платона). Но они заново возобновляют мысли, на которых держится само мышление. Таким был Декарт, таким был и другой любимец Мераба — Витгенштейн. И таким хотел быть и сам Мераб. И, думаю, это у него получилось. И потому, что он умел держать мысль, держать сознание, умел держать себя и поддерживать других. Щедрости сердца, как и силы мысли, ему было не занимать. А это верный признак больших держателей.
О постмодерне в философии (в качестве эпилога)
Размышления над метафорикой держания в «Картезианских размышлениях» естественным образом подводят к ставшей уже классическом теме соотношения философской классики и «постмодерна». Классическая философия (имеется в виду прежде всего традиция европейского рационализма Нового времени), поскольку она ориентировалась на знание (или науку) и ставила свою проблему как проблему оснований знания, обоснования самой их возможности, сформировала содержательно-конструктивный концептуальный горизонт, унифицирующий ее независимо от того, что Мишель Фуко называл «бытием языка», имея в виду его, языка, самостоятельную активность и имплицированную в нем способность мыслить. Язык как самоактивный органон мысли (это измерение языка фиксируется, например, гипотезой Сепира-Уорфа), кодирующий мировоззренческий каркас мышления, выносился при этом за скобки. Язык как язык не был собственной проблемой классической философии, т.е. язык именно как независимое «тело», как сопротивляющаяся рациональности «телесность», как некая враждебная стихия (l’adversite) по отношению к рациональной мысли. Лингвистическая телесность мысли поглощалась концептуальным аппаратом, конструкционным инструментарием мысли. Да и писалась эта философия равно как на национальных языках, так и на латыни, что демонстрировало эту «безъязыкость» классической мысли, ее индифферентность по отношению к конкретной языковой плоти. Язык в смысле Фуко, Малларме или Хлебникова был в ней вытеснен или вынесен за скобки. Кризис философии обозначился вместе с кризисом науки (вспомним соответствующую книгу Гуссерля), с появлением на базе философий жизни экзистенциализма, Хайдеггера, затем структурализма и, наконец, постструктурализма и деконструкционизма, впитавших в себя формализм, современную лингвистику, культурологию и все эти филологические (или как бы филологические) техники анализа языка. В результате от науки философия, видимо, отошла. Но к чему приблизилась? К мифу, поэзии — к языку (теперь уже в смысле Фуко и Хайдеггера).
И так возник спор двух традиций – старой (классическая традиция рационализма) и новой — постмодернизма, о чем много размышлял М.М. [47] Если постмодерн в философии можно (в принципе) свести к тезису: «Сегодня инновация в философии неминуемо проходит через инновацию в языке, в средствах выражения», то я сам, пожалуй, счел бы себя постмодернистом. Философия, как бы расставшись (это не разрыв, конечно, а некоторое «охлаждение») с наукой, «подружилась» с литературой, поэзией, искусством, фольклором, с приемами лингвистики. Там, где научно-познавательная фокусировка философии смещается, там обнаруживается «грубое тело» языка и проблема самой «материи» высказывания, встает вопрос о постигающих (и не только) и просто выразительных возможностях языка.
При разговоре о постмодерне, однако, не надо преувеличивать разрыва сегодняшнею дня с Новым временем. И в науке, и в философии традиции классики живы и по сей день. Воспроизводится (на другом уровне) отменяемая революцией в физике наглядность (воспроизводится в качестве второй наглядности). Воспроизводится и классический формализм (например, в квантовой механике лапласовский детерминизм восстанавливается, но уже на уровне волновой функции). Воспроизводится и абсолютная система отсчета (в теории относительности). Об этих инвариантных аспектах классики у нас уже давно писали и А.Д.Александров и Б.С.Грязнов [48]. И Башляр явно спешил, заявляя о не-картезианской эпистемологии [49]. Мамардашвили прав, говоря, вопреки этому революционаризму, о возвращении современной физики к Декарту. Так что де факто в современной культуре на глубоком уровне постмодерна как новой культурной целостности просто нет. Это — самоназвание для течения, которое почему-то хотело бы быть новым Новым временем. Но, повторяю, этого нет: как и любовь, историческую эпоху нельзя привести на двор человечества актом произвольной воли: «хочу так». Эпохи случаются или не случаются. Как эмоции и как мысли. Постмодерн как целостная культура пока не случился. Это — эмпирическая констатация. Что бы ни писал У.Эко — его писания на сей счет, на наш взгляд, журналистски легковесны и ничуть не убедительны [50]. Нового средневековья на дворе истории не видно. А симптомы — их каждый читает по-своему и сколько угодно, какие угодно и где угодно.
- Марен Мерсенн, пожалуй, как Энгельс при Марксе, только «талант», но, может быть, и гений, а именно гений держания уникальной сети научной переписки. Его называли послом (resident) Декарта в Париже (Descartes R. Oeuvres at lettres. Textes presets par A. Birdoux. P., 1953., p. 911). О нем см. книгу: Lenoble R. Mersenne ou la naissance du mecanisme. P., 1943.↑
- Подробно свое отношение к открытию Гарвея Декарт изложил в трактате «Описание человеческого тела. Об образовании животного» (Ч. I, С. 17 – 18).↑
- Descartes R. Méditationes metaphysiques //Oeuvres de Descartes. Nouvelle éd. collationne sur les melleurs textes par M. Jules Simon. P., 1842. P. 100.↑
- Descartes R. Méditationes metaphysiques //Oeuvres de Descartes. Nouvelle éd. collationne sur les melleurs textes par M. Jules Simon. P., 1842. P. 101.↑
- Ibid. P.99.↑
- Descartes R. Méditationes metaphysiques //Oeuvres de Descartes. Nouvelle éd. collationne sur les melleurs textes par M. Jules Simon. P., 1842. P. 101.↑
- См.: Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993.↑
- См.: Визгин В. Божьекоровские рассказы. М., 1993.↑
- См.: Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993.↑
- Там же. С. 273.↑
- Там же.↑
- М.М. эти слова (Бог, дух и др.) использовал, но в его «держательной» феноменологии мысли они становились метафорами сознания.↑
- См.: Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С.141.↑
- Там же. С. 143-144.↑
- Отголоски марксизма, точнее даже, общей марксоидной атмосферы, слегка, то там, то здесь, прожилками проходят по тексту М.М. Например, говоря о феномене, он напоминает, что это нечто такое, о чем говорилось как о «конкретно-всеобщем».↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 99.↑
- Там же. С.156.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 154.↑
- Там же. С. 155. «Когда объектное сознание работает вместе с предметным сознанием, тогда мы что-то понимаем» (там же).↑
- Descartes R. Méditations métaphysiques. P. 99-100.↑
- Ibid. P. 110↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 174.↑
- Там же. С. 234.↑
- Klaaren E. M. Religious origins of modern science: Belief in creation in XVIIth century thought. Grand Rapids (Mich.). 1977↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 48.↑
- См.: Визгин В.П. Религиозно-теологический фактор генезиса науки нового времени: эксперимент и чудо. ВИЕТ, 1995. N 4.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 155.↑
- Descartes R. Méditations métaphysiques. P. 68, 107.↑
- Descartes R. Oeuvres et lettres. P., 1953. P. 1355 и след.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 201.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 254. Для Мамардашвили характерен контрнатуралистический мотив: мысль об атомах продумывается им обязательно вместе с мыслью о том, как возможен такой субъект, как атомист? Это – когитальный вопрос, и такой подход спасает от натурализма (там же. С. 243).↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 174.↑
- Там же. С. 215.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 228.↑
- Визгин В. Божьекоровские рассказы. М., 1993. С. 377.↑
- См. Павел Флоренский. Имена. Малое собрание сочинений. М., 1993. Вып. I. С. 57-62.↑
- Визгин В. Божьекоровские рассказы. М., 1993. С. 377.↑
- Descartes R. Méditations métaphysiques. P. 91.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 215.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 228.↑
- Descartes R. Méditations métaphysiques. P. 89.↑
- Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М., 1959. Т. IV. C. 17.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 156-157.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 234.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С. 243.↑
- Там же. С. 244.↑
- Продумывание эпистемологии этого поворота см. в его работах: Мамардашвили М. К., Соловьев Э. Ю., Швырев В. С. Классическая и современная буржуазная философия. Опыт эпистемологического сопоставления//Вопросы философии. 1970, N 12. C. 23-38; 1971. N 4 C. 58-73; Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, 1984.↑
- См.: Александров А.Д. Философское содержание и значение теории относительности//Современные проблемы современного естествознания. М., 1959. С. 93-134. См.: Грязнов Б.С. Логика. Рациональность. Творчество. М., 1982.↑
- См.: Башляр Г. Философия «не»//Новый рационализм. М., 1987.↑
- Эко У. Средние века уже начались//Иностранная литература, N 4, 1994. C. 259-268.↑