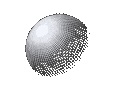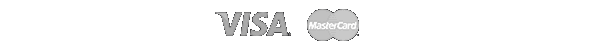Размышления о "Кантианских вариациях"
© Вадим Васильев, 2009
Книга Мамардашвили стала знаменита задолго до ее публикации в 1997 г. и не нуждается в особом. Но на всякий случай напомню, что она являет собой плод расшифровки магнитофонных записей смелых лекций о Канте, прочитанных Мерабом Константиновичем весной 1982 г. в Институте общей и педагогической психологии. То есть это не совсем книга. Это сборник лекций. К таким публикациям всегда особое отношение. Оценочная планка ниже, чем у монографий. Действительно, лектору, повествующему, скажем, о Канте, бесполезно вдаваться в тонкости. Их все равно не воспримут. Философские аргументы тоже не воспринимаются на слух, хотя они-то и составляют основу философских дискурсов. Иногда вызывает скуку и перечисление ничего не говорящих слушателям фамилий исследователей, отличившихся в той или иной области историко-философской науки. Между тем все это – элементарные критерии любой добротной монографии. В лекциях же этого обычно не бывает. Поэтому и оценивать их надо иначе. Правда, все эти рассуждения применимы к «Кантианским вариациям» не в полной мере. Во-первых, как свидетельствуют издатели «Вариаций», Мамардашвили хотел увидеть печатный вариант этих лекций. То есть он сам придавал им статус книги. Кроме того, автор признается студентам, что он «письменно» готовился к лекциям. Уверен, что знавшие Мамардашвили оценят это признание: письмо, как говорят, всегда было для него мучением. Более того, сам он замечает, что сделанные им наброски о Канте мешают ходу его мысли. Добавим к этому, что издатели (Ю. Сенокосов, Е. Ознобкина) существенно «почистили» текст, убрав повторы и другие признаки устной речи.
Итак, лекции Мамардашвили о Канте «книжны». И в то же время это настоящие лекции. К примеру, читая текст, мы иногда физически ощущаем раскаты студенческого хохота от удачной шутки или, наоборот, слышим, как замирает аудитория при резких антимарксистских или антисоветских выпадах – такое может быть только на лекциях. Так что мы на перепутье. Можно по-разному подходить к осмыслению «Вариаций». Но в любом случае история этой работы допускает применение к ней самых строгих критериев.
О чем книга «Кантианские вариации»? Ответ, в общем, заранее ясен. Кантовская тема – очередной повод для Мамардашвили, как он сам говорил, «маниакально» проговорить свои идеи. Но если остановиться на этом толковании, тогда непонятно, почему он выбрал именно Канта? Ведь Кант дается Мамардашвили с трудом (это вам не Декарт). Кант, по его мнению, слишком «техничен». Он ощетинивается на безоружного читателя своей терминологией. Именно поэтому Мамардашвили не очень любит «Критику чистого разума», хотя и не признается в этом. Во всяком случае, он, насколько возможно, избегает главной работы Канта. «Трансцендентальный аппарат анализа», как называет Мамардашвили терминологию «Критики», вырастает из по-юношески свежей мысли ранних кантовских сочинений. В этой мысли и купается наш автор. И нет ничего удивительного в том, что он резко критикует тех, кто бездумно принимает деление кантовской философии на «докритическую» и «критическую». Надо просто понять, что пластичная мысль со временем неизбежно окостеневает. Вот и все различие.
Впрочем, такое толкование позиции Мамардашвили упускает из виду тонкость его исследования. Часто он высказывается по-другому, оценивая «трансцендентальный аппарат анализа» как высшую ясность кантовской мысли. Просто если брать этот аппарат сразу, в готовом виде, мы услышим только слова, и ничего более. Поэтому мы должны вместе с Кантом проделать путь к ясности, начиная с его первых работ. Само по себе это утверждение Мамардашвили представляется точным и понятным, как, впрочем, почти все, что он говорил. Действительно, называть докритический период кантовской философии временем догматизма Канта не совсем верно. Скорее, как раз наоборот. В докритических работах Кант – в поиске, он очень осторожен и скептичен. Суть же критического периода – «эврика!» – Кант находит решения и воплощает их на страницах «Критики». Конечно, эти решения обоснованы, и о догматизме говорить довольно трудно. Но, по крайней мере, если догматизм и возможен, то он возможен только в сфере позитивной философии, а не в области осторожных методологических изысканий.
Однако вернемся к утверждению Мамардашвили об отсутствии глубоких оснований для различения докритической и критической философии Канта. Мамардашвили мог бы просто остановиться на нем – ведь оно интуитивно понятно (хотя и не абсолютно, а Мамардашвили, кажется, считает его именно таковым, и это мешает ему заметить реальные изменения кантовской позиции в критический период, к примеру, по вопросу о сущности пространства, которому Мамардашвили уделял так много внимания). Но он пытается дать дополнительное обоснование гомогенности двух периодов кантовской философии, приводя чисто историко-философский аргумент. И здесь он, на мой взгляд, изменяет себе. Ему вообще опасно вдаваться в детали. Его сила – в усмотрении общего, неявного, но не менее от этого реального. Но как только Мамардашвили пытается рассуждать академически и историко-философски, он начинает опасное путешествие по краю (впрочем, может это и хорошо). Так и здесь. Вот какой аргумент он предлагает. Кант говорил, что Юм вывел его из догматического сна. Обычно эти слова понимают буквально, считая, что вот был у Канта догматический период, потом произошло пробуждение (где-то в районе 1770 г.) и начался критицизм. Но ведь «работы Юма вышли гораздо раньше, в 30-х гг., и знакомство с ними Канта может быть датировано не позднее чем двумя-тремя годами после их появления». Ну, а раз так, то пробуждение началось уже с самой первой, студенческой работы Канта, начавшей выходить с 1746 г. (издание растянулось на три года). Здесь неточность на неточности. Во-первых, в 30-е гг. (1739–1740) вышел только «Трактат о человеческой природе» Юма. Во-вторых, Кант не читал по-английски, а полный перевод «Трактата» появился только в 90-е гг.
В действительности, как мне представляется, «пробуждение» Канта может быть датировано с точностью до дней. Скорее всего, оно произошло во второй половине июля 1771 г. Непосредственным поводом для «пробуждения» стало знакомство Канта с переводом И. Гамана последней главы первой книги юмовского «Трактата». Можно четко установить, какой аргумент Юма вызвал изменение кантовской позиции и т. д.
Все это я говорю для того, чтобы поставить следующий вопрос: имеем ли мы право без тщательного исторического анализа выдавать свое понимание, скажем, Канта за собственные мысли Канта? Думаю, что такое право мы имеем. А излишняя детализация и стремление к имманентному анализу, к тому же, обычно приводит к неспособности охватить мыслью целое. Очень трудно оторвать взгляд от каких-то частностей. Но, может быть, эта кажущаяся неспособность есть просто осознание рискованности такого шага? Считается, что труднее всего выйти из лабиринта, неважно какого: логического или реального. Однако настоящие трудности начинаются, когда мы выходим из него: слишком много открывается возможностей. В лабиринте у нас всегда есть четкая цель, а по выходе из него она становится неочевидной. Однако школа лабиринта необходима для самого этого понимания рискованности и непредсказуемости свободы.
Однако вернемся к вопросу о том, почему Мамардашвили избрал для высказывания своих идей не самый податливый объект – метафизику Канта. Так или иначе, но этот выбор доказывает, что его «Вариации» задуманы не только как изложение собственных идей автора, но и как попытка проникнуть в основы именно кантовской, философии. Помимо прочего, Мамардашвили все-таки думает ответить на вопрос «Что хотел сказать Кант»?
Впрочем, Мамардашвили сам снимает возможное противоречие замыслов. Разгадка проста. Как только мы начинаем философствовать, говорит он, в нас сразу же рождается Кант. Кант, «фантастически гениальный» мыслитель, ухватил самую суть философии. Поэтому он необходимая фигура. И как бы ни мешала нам его терминология, мы должны, снимая одно ее наслоение за другим, пробираться к источникам живой мысли. Впрочем, и снимать ничего не надо. У Канта есть работы, где он мыслит неприкрыто. Это как раз ранние сочинения. Ну и, конечно, черновики Канта. Это настоящее царство чистой мысли. Мамардашвили любит озвучивать их. Правда, потенциал кантовских рукописей используется им, на мой взгляд, не полностью. Кстати, не совсем ясно, каким изданием кантовских работ он пользовался (похоже, что у него была давнишняя «доакадемическая» подборка «разрозненных листов» кантовских рукописей, сделанная в 80-е г. позапрошлого столетия Р. Райке).
Интересно, что Мамардашвили не критикует Канта. Он очень догматичен в своем кантианстве. Уверен, что только что сказанное вызвало бы у него сильное раздражение. Словосочетание «критика Канта», по его мнению, пошло, поэтому и не может быть никакой критики. В мысли Мамардашвили есть что-то привлекательное, но все же этот момент вызывает у меня сильное замешательство. Речь не идет, разумеется, о том, что по прошествии двухсот лет мы знаем больше, чем Кант, и поэтому умнее его. Это вообще абсурдное рассуждение. Дело в другом. Решая главные задачи своей философии, Кант выстраивает целую цепь доказательств. Вот они и могут стать предметом анализа. Кстати, сам Мамардашвили по ходу дела (с. 67) замечает, что «философия есть изобретение аргументов». Вполне возможно, что какие-то из этих доказательств не безупречны. А может быть, безупречны. Чтобы понять это, надо тщательно изучить их. Но важно то, что принятие такой установки в скрытом виде уже содержит критическое отношение к кантовской философии. Мамардашвили же прямо называет Канта Богом. Впрочем, мистики не исключают диалога и с Богом, но Мамардашвили, к счастью, не из их числа.
Мы, впрочем, отвлеклись (как это часто делает и Мамардашвили) от главного вопроса: что же, по мнению Мамардашвили, все-таки хотел сказать Кант?
Как можно понять из пятнадцати лекций Мамардашвили (а для изложения всего материала, говорит он, ему нужно было бы еще пятнадцать), философию Канта можно раскрыть (и это раскрытие есть бесконечный процесс: кантовская мысль похожа на шедевр искусства, тоже до конца не постигаемый) через несколько основных интуиций.
Один из центральных образов, через который Мамардашвили пробует понять Канта, это образ «полноты чувств». Совершенна душа, исполненная чувств. У Канта была такая душа. Чувства переполняли его. Жить с такой душой очень трудно. Если бы не внешняя организующая рутина лекционной работы философа, непонятно, как вообще он мог бы существовать. Кстати говоря, проблема существования – предмет особого интереса Мамардашвили. Вместе с Кантом он пытается открыть непохожие на физические, нетривиальные законы человеческого бытия (хотя парадокс в том, что выражаются они в тавтологиях, правда, не логических, а особых, «материальных»).
Итак, еще одна дорогая Мамардашвили интуиция Канта – интуиция бытия, или фактичности. Это вообще одна из его главных тем. Вы можете спросить, кто имеется в виду, Кант или Мамардашвили. Мамардашвили хочет, чтобы Кант. Но на самом деле Мамардашвили. Мамардашвили все время повторяет, словно заклинание, загадочные слова «это есть». Никакой момент жизни не выводим из предыдущего. Он всегда нов. Осознание вечной новизны мира, неразрывно связанной с его дискретной фактичностью (а также с нашей свободой и ответственностью: из прошлых заслуг не вытекает правильность и автоматичность решения, которое мы должны принимать в настоящий момент), – это, похоже, и есть, по Мамардашвили, цель философии. Наверное, можно на этот вопрос взглянуть и более прозаично. Представьте себе, что вы водитель – неважно какой машины. Важно, что в салоне загрязнилось стекло и вы не очень четко видите окружающее. Что вы сделаете? Конечно, протрете это стекло. Нужно это сделать? Конечно. Философия есть то же самое (этот образ близок и самому Мамардашвили). Она очищает стекло, через которое мы смотрим на обыденную перцептивную жизнь, проясняя, к примеру, необходимые связи между нашими инстинктивными «онтологическими» диспозициями. Польза от этой рутинной процедуры может быть многоразлична, хотя это не имеет большого значения. Впрочем, философу нельзя запретить заниматься и чем-то другим.
Так есть ли у Канта эта интуиция фактичности? Можно сказать, что да. Кант действительно исключает из своих исследований вопросы, связанные с дедуктивным выведением фактов. Скажем, он пресекает попытки выяснить, почему у нас именно столько, а не больше или меньше категорий, логических функций и форм чувственного созерцания, а также почему они именно такие, а не другие. Важно, однако, что пресекает он не чьи-либо, а свои собственные попытки. Дело в том, что еще незадолго до выхода в свет «Критики» (а следы остались и в первом ее издании) Кант думал найти ответ на эти вопросы. Скажем, он полагал, что наш набор основных понятий рассудка (категорий) связан со спецификой чувственного созерцания человека. Если бы у нас были другие его формы, то «опрокидывание» на них чистого Я, апперцепции, порождало бы совсем иные категории. Так что у Канта здесь сильные подводные течения. И тем не менее его окончательная позиция кристально обозначена Мамардашвили. Канта за эту уверенность в логической неразложимости фактичности потом упрекали Фихте и Гегель (их, кстати, Мамардашвили не жалует: Фихте для него не интересен, а философия Гегеля вообще есть «систематическое безумие», хотя само по себе, говорит Мамардашвили, это не так и плохо: в конце концов, и Кант призывает нас «с толком сумасшествовать»), не понимая, что это была сознательная позиция мыслителя. Кант ведь ограничивает знание, чтобы «дать место вере». Кант даже доказывает, что человеческое всезнание обессмыслило бы мир. Впрочем, Мамардашвили несколько иначе трактует кантовскую тему несовершенства нашего познания.
Как он считает, это еще одна исконная кантовская мысль. На всяком рассуждении Канта «лежит отсвет незнаемого на знаемом». Утверждая что-то, Кант говорит больше того, что фактически сказано. Невысказанное или недосказанное оживляет наше мышление. Провалы в мысли порождают в нас желание исследовать их, стать спелеологами духа. Хуже всего для философии беспроблемность. Добавлю от себя, что именно беспроблемность, неспособность уйти от унылых дескрипций, к примеру, ухудшила перспективы и серьезно осложнила судьбу гуссерлевской феноменологии.
Кант, считает Мамардашвили, мастерски умел высвечивать это «незнаемое». И это не была какая-то нарочитая позиция, философская «гримаса». Кант вообще не любил гримас во всем: в жизни и метафизике. Его мышление очень натурально. Для него мыслить – как для нас дышать. Мышление Канта живо и поэтому парадоксально. Размышляя над Кантом, говорит Мамардашвили, мы испытываем странное чувство: вроде бы понятно, но высказать словами нельзя. Он приводит один из примеров такой кантовской мысли. Упование на Бога настолько абсолютно, что мы не можем брать его в расчет в наших делах. Мысль ясна, но почти неуловима.
Обычно же Канта пытаются упростить. Сыплют словами, а смысл ускользает. Мы все время, говорит Мамардашвили, хотим затолкать Канта в какую-то клетку, на которой написано: «агностик», «идеалист», «дуалист» (кстати, Кант признавался самому себе, что он дуалист). А он все время оказывается в другом месте и не поддается нашему классификаторскому усердию.
Вообще пафос Мамардашвили такой: Канта неправильно понимают. Ухватываются за какие-то его термины, бессмысленно повторяют их… Мысль прячется. Более того, при буквальном прочтении философия Канта приобретает какой-то «марсианский оттенок». Наверное, Мамардашвили прав. Изучая Канта, все время хочется нацепить броню его терминологии. Зачем? Чтобы не признаваться, что ничего в нем не понимаешь. Но Мамардашвили успокаивает: так и должно быть. Ведь что значит понять? – Объяснить из какого-то одного принципа. А у Канта нет такого принципа, из которого можно было бы все объяснить. Поэтому у него нет системы. Смелая мысль. У Канта, который гордился тем, что все его идеи связаны жесткой систематической нитью, нет системы. Но опять Мамардашвили чувствует что-то неочевидное. Он сам, словно Кант, идет против «чувственной видимости», совершая «коперниканский переворот» в кантоведении. Впрочем, не совсем так. Идея внутренней хаотичности (что не обязательно является недостатком: вспомнив старые мифы, можно понять хаос и как подлинно креативное начало) кантовской философии при ее внешне систематическом облике была высказана еще до Мамардашвили. Причем высказана теми, кто ставил своей целью изучение Канта вплоть до каждого его слова и термина – «кантофилологами». Я имею в виду «лоскутную теорию» «Критики чистого разума», придуманную около ста лет назад Э. Адикесом, X. Файхингером и впоследствии поддержанную знаменитым исследователем философии Канта и «эталонным» (до недавнего времени) переводчиком «Критики» на английский язык Н. К. Смитом. Они считали, что внешние контуры системы критической философии – не более чем грубые швы, в спешке наложенные Кантом на разнородный и даже противоречивый материал. Создавая окончательный текст «Критики» (этот процесс, по собственным словам Канта, занял «4–5 месяцев» 1780 г.), Кант использовал рукописи, созданные в разные годы, и не смог до конца учесть изменение собственных взглядов. Итог: наличие фундаментальных противоречий в тексте основного произведения Канта. Внешняя гармония «Критики» покоится на сумбуре кантовской мысли. В свое время эта концепция вызвала негодование в университетских кругах. Известный исследователь философии Канта Г. Патон восклицал: если метафизика Канта стоит на противоречиях, как можно вообще преподавать ее! Чему мы будем учить студентов?! Мамардашвили, наоборот, говорит: это и хорошо. Только такая безнадежная интеллектуальная картина может индуцировать мышление.
Вернемся на секунду к «лоскутной теории». В настоящее время она почти не пользуется авторитетом. Многие кантовские противоречия, о которых говорили ее сторонники, существовали только в их собственных умах. Иногда, правда, можно встретиться с попытками модернизации этой концепции (на мой взгляд, довольно спорными). Скажем, ведущий современный кантовед – П. Гайер выдвинул идею многовариантности аргументативных тактик Канта в «Критике». Но тот же Гайер поставил точку в дискуссиях об исторической «лоскутности» кантовского шедевра. Как часто бывает, все заканчивается шуткой. Развивая лекционный экспромт Л. У. Бека, Гайер писал, что если предположить в духе «лоскутной теории», что Кант мог бы скомпилировать некогерентный текст, то тогда он вполне мог бы и создать некогерентный текст с чистого листа (как Гайер, собственно, и считает) и тогда «лоскутное» допущение оказывается просто излишним.
Важно, однако, что все эти споры никак не могут поколебать позицию Мамардашвили. Разница между ним и «лоскутниками» состоит, так сказать, в различии оценок кантовского гения. То, что последние считают недостатком, Мамардашвили воспринимает как достоинство и как осознанную линию Канта. С ним трудно спорить. Но спорить надо, хотя и по поводу других вещей. Кажется все-таки, что система у Канта есть. Она складывается постепенно. Кант часто петляет, но, в конце концов, все же находит не оборванные кусочки путеводной нити, как он пишет в одном черновом наброске, а целое связующее волокно. Отбрасывая системность кантовской мысли, мы слишком многим рискуем. Ведь что такое системность, как не раскрытая основательность мысли, удавшееся обоснование решения важнейших философских вопросов, – если у философии есть какие-то вопросы, кроме вопроса, «что такое философия». Там, где есть аргументация, есть и системность. Соответственно, отбрасывая системность, мы отказываемся от философской аргументации и опять рискуем оказаться в беспроблемной ситуации (ведь аргументы нужны для решения проблем). Едва ли стоит это делать. Вспомним хотя бы, что первым философом многие считают человека, который впервые стал аргументированно рассуждать о началах вещей. Стоит ли порывать с такой традицией? Другое дело, что философская аргументация часто дискредитировала себя, занимаясь такими предметами, которые вовсе недоступны для познания. Кант, кстати, хотел умерить этот философский пыл. Правда, не исключено, что наиболее перспективные пути для рациональности были проложены даже не столько им, сколько его извечным противником и кумиром – Юмом. Юму пришла в голову идея того, что можно было бы назвать «феноменологическими дедукциями», т. е. идея доказательств, разворачивающихся в плоскости субъективности и служащих своего рода колесиками микроскопа, увеличивающего наши собственные когнитивные акты и делающего их гораздо более отчетливыми для нас. Эта идея смогла (точнее, смогла бы, если бы не некоторые исторические обстоятельства) оживить то, что тогда называли «эмпирической психологией» и что зачастую сводилось к скучному перечислению душевных сил и способностей. Кант тоже хочет исследовать сознание, но делать это он пытается с помощью «трансцендентальных доказательств», оставляющих сферу непосредственной доступности для рефлексии, хотя во многих отношениях не менее остроумных (чего стоит только центральный аргумент трансцендентальной дедукции категорий – наверное, самый оригинальный за всю историю философии) и продуктивных, чем иногда немного сыроватые феноменологические доказательства Юма.
Это замечание о Юме я сделал для того, чтобы в очередной раз подтвердить правоту Мамардашвили. Хотя в аргументативной части своей философии Кант, при всей его оригинальности, в целом и общем не превосходит современников, ценность его философии не замыкается на представлении о классическом идеале строгой мысли. Есть в Канте что-то большее. Большее – это удивительная цельность его умозрения, способность видеть Единое и открывать его другим. Именно это Мамардашвили и хочет сказать.
Кстати, интуиция Целого, не сводящегося к частям, признается Мамардашвили основой основ кантовской философии. Мамардашвили пытается сделать ее максимально доступной для слушателей, подробно обсуждая ее на различном материале. Идея Целого приводит нас, пожалуй, к главному ключу, которым Мамардашвили хочет отомкнуть кантовскую мысль.
Речь идет о понятии формы. Есть форма, говорит Мамардашвили, а есть содержание. Содержание – это содержание. Есть что-то, что его держит. Это и есть форма.
Очень важно научиться видеть форму. Такое видение равносильно осуществлению гуссерлевской феноменологической редукции, о которой Мамардашвили тут же вспоминает. Кантовская философия помогает в этой учебе, ибо она тоже посвящена раскрытию многообразных сторон формальной стороны бытия.
Мамардашвили, ходя кругами, вводит слушателей в эту сложнейшую, как он сам говорит, тему. Чтобы пояснить специфику формального элемента бытия, не сводящегося к голой данности и придающего осмысленность миру, он приводит всяческие иллюстрации. Вот одна из них. Представим себе некое инопланетное существо, попавшее в театр (в качестве примера упоминается Театр на Таганке). Оно будет видеть какие-то движения людей, смену картонных картинок (т. е. декораций) и т. д. Все происходящее будет открыто ему. Но если оно не знает, что такое театр и что оно находится именно в театре, смысл происходящего останется для этого существа неясным. Этот пример не единичен, напротив, он скорее отражает общее состояние дел. Вывод: смысл не задан содержанием, а дополнителен к нему и в то же время «держит» ситуацию. Смысл открывает нам пространство формы. Поскольку форма как бы находится над содержанием (она напоминает то, что Платон именовал Единым), ее можно назвать «невидимым элементом» восприятия. Вещи видны в форме, но сама она обычно скрыта и непонятна. Да объяснять ее и нет необходимости. Надо просто принять ее такой, какая она есть, и двигаться в ее свете. И вот сам этот «невидимый элемент» неожиданно и ярко высвечивается Кантом. Когда Мамардашвили говорит, что мысль Канта всегда выражает в знаемом незнаемое, он имеет в виду именно это. Отчетливее всего это заметно в понятии пространства (оно и есть исходная праопытная форма), а также на примере учения Канта о вещи в себе. Вещь в себе как трансцендентальный предмет не находится в плоскости данного, но поскольку необходимость ее признания связана с нашей сущностной конечностью, от которой, в свою очередь, напрямую зависит весь строй и смысл нашей жизни, то мы опять видим правоту Мамардашвили в его тезисе о единстве смысла и формы. Если же брать вещь в себе в ее субъективном аспекте, то она, считает Мамардашвили, оказывается неким неопределенным еще сознанием, зависшим на фоне неопределенного мира, когда есть еще много возможностей и вариантов, много потенциальных миров. Но вот выбор сделан, мир определился, определились и мы в мире. Так форма обретает содержание. Кант, считает Мамардашвили, с юных лет гнался за интуицией формы, но нашел ее четкое выражение только в критических сочинениях. Квинтэссенция этой темы – учение Канта об априорных формах чувственности и проблема априорного вообще. Ведь если форма – над содержанием, она – до него, а значит, дана a priori. Вот под таким углом Мамардашвили видит главную интригу критической философии. Впрочем, анализ формы у Мамардашвили этим не ограничивается. Формальное дополнительно к миру явлений, а значит, не подчинено его жестким законам причинности. Следовательно, форма – это автономный, производящий и организующий содержание принцип, сфера свободы как самозакония. Форма – «стихия практического» (именно «стихия», а не «практический разум»: этот термин Мамардашвили не любит, так как он сразу порождает надуманные вопросы о соотношении теоретического и практического разума и т. д.).
Здесь у Мамардашвили нет никаких трудностей с подтверждением своей гипотезы на материале кантовских сочинений. Да они и не могут возникнуть, поскольку тут он действительно выходит к самой сути кантовского воззрения на мир. Идея бескорыстного, а значит, автономного нравственного закона как высшего организующего (стало быть, формального) принципа человеческого существования, в котором человек может впервые перестать быть игрушкой внешних сил (этот момент игры с нами, когда кто-то водит нас за нос, Мамардашвили не устает отмечать; кстати, многие цитаты из Канта, а их действительно много, снабжаются им подробными «разбавляющими» разъяснениями в скобках – как здесь у меня) и обретает внутреннюю цельность, т. е. становится индивидом, или личностью, есть основа основ кантовской философии. Мораль и моральная личность, хотя, впрочем, другой и быть не может, считает Кант – это главное сокровище мира. Знание, в конечном счете, служебно. Служебно в этом смысле и эстетическое – ведь Кант не случайно называет прекрасное символом доброго.
Эстетически оценивая Канта, Мамардашвили находит и другие философские синонимы понятия формы в кантовской мысли. Скажем, цель. В самом деле, если форма (неважно, вещи, ситуации восприятия или мира) есть невидимое условие понимания, а понимание складывается из разрозненных кусочков опыта, когда мы схватываем, «зачем все это», то форма и есть телос, цель бытия.
В последних лекциях Мамардашвили акцентирует историческую вариацию формы (кстати, Мамардашвили выстраивает свои лекции так, что он словно взбирается по ступенькам кантовской мысли и постепенно смещает свое внимание от метафизики природы к разным аспектам практической философии). В самом деле, когда мы оказываемся в той или иной перцептивной ситуации, трансцендентальные формы познания уже отыграли свою партию, уже нашептали явлениям мысли, которые мы собираемся из них сознательно вычитать. Это значит, что они историчны для нас. Более того, это означает, что в их измерении и творится настоящая и подлинная история.
Итак, мы поняли, что тема формы ведет мелодию «Кантианских вариаций». Мамардашвили действительно варьирует ее на разные лады, порой весьма неожиданно. Кстати, нетрудно догадаться, что «музыкальное» название книги не раз обыгрывается автором. В самой первой лекции он заявляет, что будет создавать эту интерпретационную симфонию (хотя, конечно, самого этого пышного слова у него нет), варьируя кантовские метафизические этюды. Сам Кант, правда, не любил музыку, считая ее слишком назойливым средством самовыражения. Но музыкальное прочтение его работ представляется все же удачным решением. Не зря ведь Шопенгауэр, считавший себя единственным истинным кантианцем, говорил, что только музыка может в полной мере передать динамику жизни (или мысли, как сказал бы Мамардашвили).
Впрочем, преувеличивать роль музыкальных метафор у Мамардашвили тоже нельзя. Да, вписывание мыслей в придуманный нотный стан истолкования кантовской мысли не может не отразиться на словоупотреблении философа. Но часто изменения носят лишь внешний характер. Скажем, слово «контекст» (а все мысли Канта, считает Мамардашвили, надо брать только в контексте, иначе мы ничего не поймем) автор повсюду заменяет словом «аккорд» и т. д. Правда, музыкальным рядом Мамардашвили не ограничивается. Не меньшую роль играет у него и геометрическая символика. Кант философствовал очень геометрически. Не в том смысле, что он хотел сделать метафизику похожей на математику (это как раз хотели его предшественники: от Декарта до Юма). Просто он мыслит очень четко (Мамардашвили отмечает, что не знает более ясных мыслителей в истории философии, чем Декарт и Кант). Четкость его дискурса словно заманивает к себе математические образы.
И в самом деле, в ранних работах Кант призывал арифметические и геометрические образы на помощь метафизике. Он думал, что понимание, скажем, природы отрицательных величин может способствовать решению трудных философских проблем. Потом эта идея отступила на задний план, изредка вспыхивая на полях его черновиков, где он, к примеру, соотносил четыре класса категорий с четырьмя арифметическими действиями, Бога – с иррациональным числом, а мир в целом – с квадратным корнем из отрицательного числа. Мамардашвили же выбирает в качестве интерпретационного ключа (приводя несколько натянутое обоснование) знаменитую ленту Мёбиуса, «двустороннюю плоскость» – можно называть ее и так, хотя чаще о ней говорят как об «односторонней поверхности»: впрочем, это неважно и говорит скорее о том, что она действительно богата ассоциативными возможностями, пусть даже самому Канту и неизвестными (Мёбиус родился, когда Канту было уже далеко за шестьдесят). Мне, правда, кажется, что лучше этот вывернутый наизнанку образ годится для разговора о гегелевской философии: он, к примеру, прекрасно иллюстрирует отношение между «сущностью» и «явлением» и т. д. Тем не менее последняя треть «Вариаций» развивается под знаком Ленты. И надо сказать, что эта лента очень запутывает мысль Мамардашвили. Финальные пять лекций на редкость трудны для понимания. Следуя причудливой логике Ленты, Мамардашвили переходит на оптический язык, теряя читателя в сложной системе зеркал и ложных фокусов сознания. Перед нами медленно возникает что-то вроде висящей в пустоте голограммы нашего сознания, то раскрывающегося в пространстве своих восприятий, то исчезающего в абсолютном тождестве трансцендентальной апперцепции. И вся эта замкнутая конструкция подвижна и текуча в постоянном изменении своих форм и расцветок. В довершение всего (и это испортит весь образ) конструкция эта, признается Мамардашвили, еще и скрипит. Это не шутка. В одной из последних лекций он в самом деле говорит, что ему со скрипом удается мыслить о Канте, и он понимает, что слушателям еще труднее.
Теперь самое время вернуться к вопросу, который уже мельком затрагивался. Почему Мамардашвили ищет какие- то обходные пути понимания кантовской философии? Зачем эти музыкальные и оптические образные ряды? Взял бы просто «Критику чистого разума», где, как он сам говорит, мысль Канта достигла высшей ясности. А Мамардашвили почти совсем не цитирует «Критику». Вот ранние произведения или, еще лучше, письма – это другое дело. Создается впечатление, что он хочет объяснить Канта, совсем не используя кантовской терминологии. В книге ее и, правда, нет. Такие ключевые термины критической философии Канта, как «категории», «схемы», «паралогизмы», «рассудок» и т. д., практически не упоминаются в «Вариациях». Другие, скажем, «явление», «вещь в себе» «исполняются» Мамардашвили только после утомительных репетиций. Но это его сознательный выбор. Только так, считает он, можно стряхнуть привычный образ кантовской мысли и расправить ее для некоего полета, пусть даже он и не совсем получается, или скорее совсем не получается. Но за этим частным моментом у Мамардашвили таится нечто большее. За ним стоит определенная философия языка. Суть этой философии, если говорить коротко, в том, что язык мешает мысли. Он мешает увидеть бытие в его чистоте. Он какая-то перегородка, которую надо убрать. Оговорюсь, понимание языка у Мамардашвили не сводится только к этому, по крайней мере, не сводится только к этому на словах. Но такой момент присутствует. В этом плане Мамардашвили выбивается из лингвистического хора современной философии (правда, не очень стройного в последние десятилетия). Он совсем не похож на типичного западного метафизика 80-х гг. XX столетия (в этом плане можно поспорить с Федором Гиренком, связывающим в своей книге «Патология русского ума» нашего героя с традицией западного философствования, называя его даже «последним европейцем»). Наоборот, возможно, Мамардашвили лучше всех из отечественных философов понял и реализовал смысл пресловутого «всеединства» (что, конечно, само по себе не является положительной характеристикой, как, впрочем, и отрицательной).
Но вернемся к языку. С одной стороны, разбор лингвистических завалов на пути к бытию полезен – а то ведь некоторые (но, конечно же, далеко не все) аналитические философы, прямо как люди древних культур, начинают смешивать слова с вещами. Но, с другой стороны, достаточно вспомнить Декарта (а он считал, что употребление слов – это признак наличия интеллекта и, следовательно, т. е. «следовательно» для Декарта, души), или Хр. Вольфа, ясно показавшего, что слова вносят отчетливость в представления (хотя сами они – тоже представления, и в этом плане ничем не лучше других), а так как отчетливость как раз и отличает мышление от чувства, то, можно сказать, показавшего, что они входят в самую ткань мышления. Так вот, достаточно вспомнить все это, чтобы понять невозможность бессловесной философии и невозможность просто так отделаться от проблемы языка. Мамардашвили это и имеет в виду, подчеркивая, что люди являются уникальными носителями языка описания мира. Человек, добавляет он, «есть объект, дающий язык». Это не просто слова. Это ценностное суждение, которое, правда, звучит несколько телеологически и напоминает формулы немецких идеалистов о самопознании мира через человека. Между прочим, о телеологии я заговорил не случайно. Любая рецензия – а эта статья была первоначально задумана как рецензия – имеет четкую цель: дать характеристику той или иной работе. И сейчас пора это делать. Надо подводить итоги, но сделать это почти невозможно. Вне всякого сомнения, книга Мамардашвили – важное слово. Она, конечно, учит философскому мышлению. В ней «запакован» (Мамардашвили часто повторял это слово) оригинальный и глубокий смысл. «Распаковать» его непросто. При первом знакомстве эту книгу вообще невозможно читать. Впрочем, так бывает с любым значительным философским произведением. Кто с первого раза смог разобраться с «Критикой чистого разума»? Если же смотреть на «Вариации» только как на историко-философский труд (хотя возможно ли это?), то и здесь перед нами интересное исследование. Автор вовсе не поверхностно судит о Канте (как в принципе можно было бы ожидать). Наоборот, не говоря уже о примерно сотне цитат и ссылок на работы Канта, подчас возникает ощущение, что Мамардашвили по-настоящему проникся кантовским духом.
Не удивительно, что иногда он почти дословно угадывает то, что говорит Кант даже в недоступных (по техническим причинам) для автора «Вариаций» текстах. Пример – тезис Мамардашвили о разрубающей узел противоречий свободе у Канта, подробно обсуждаемый немецким философом в лекциях по теологии; едва ли Мамардашвили не процитировал бы этот замечательный фрагмент кантовского курса, если бы недавно (т. е. недавно для 1982 г.) вышедший томик лекций был у него на руках. Так или иначе, но, читая Мамардашвили, мы чувствуем предметность обсуждения, вещество реальной кантовской мысли. Соответственно, нельзя отмахнуться от его видения философии Канта. Да, в деталях он иногда неточен (примеры уже приводились). Но это просто не его стихия. В истории философии, как в физике: законы микромира нельзя автоматически переносить на взаимодействия макрообъектов. Последние надо изучать отдельно. Тщательные текстологические исследования могут закрывать возможность видения общих принципов философской системы. Правда, я, честно говоря, не уверен, что это всегда так. Одним словом, легко догадаться, что никаких выводов о книге я делать не собираюсь. В конце концов, сами лекции обрываются на полуслове. Мамардашвили не смог сладить со временем, о котором так много говорил. Хотя это своего рода символ: композиционная распахнутость и незавершенность его работы выражает открытость мысли Мамардашвили, а может, и мышления вообще. Собственно, это он и хотел показать.