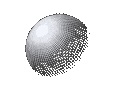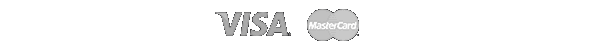Экзистенциальная сотериология Мераба Мамардашвили
© , 1995
Прежде всего, позвольте мне поблагодарить руководство и сотрудников кафедры философии Пермского политехнического университета за выбор самой темы сегодняшней конференции, удивительной по увлекательности, компетентности и изысканности; позвольте поблагодарить за то, что конференция посвящена памяти М. К. Мамардашвили и, наконец, за то, что из многих московских интеллигентов, которые знали и почитали этого редкостного человека, для участия в конференции приглашены Ю. А. Левада и я.
Приношу извинения тем, кто, возможно, ждет от меня «заглавного доклада», посвященного сравнению Чаадаева и Мамардашвили в их судьбе, поступках и идеях. Подобная задача мне не по плечу.
Я не возьмусь обсуждать то, что проблемно-тематически объединяет этих мыслителей, т. е. вопрос об историческом уделе России (именно таков смысл реплики Мамардашвили, которую уже напомнил нам сегодня В. А. Кайдалов: «Когда я начинаю думать о России, я вижу ее в точке Чаадаева»).
Я не готов к личностному сопоставлению Чаадаева и Мамардашвили, хотя вижу, насколько захватывающей могла бы быть подобная биографическая и историко-культурная работа. Три обстоятельства глубоко (и уже достаточно давно) поразили меня. Во-первых, то, что у Чаадаева и Мамардашвили одно и то же любимое изречение (при этом могу поручиться, что Мераб Константинович отыскал и облюбовал его сам, а не по подсказке Петра Яковлевича). Речь идет о знаменитой сентенции Паскаля: «Мышление человечества есть мышление одного-единственного человека, мыслящего вечно и непрерывно». Во-вторых, у Чаадаева и Мамардашвили одна и та же категориальная антипатия. Сильвана Давидович (итальянский театральный и литературный критик) свидетельствует: «Мамардашвили ненавидел слово «надежда». Он ассоциировал надежду с ощущением, что завтра придет нечто такое, что избавит тебя от необходимости сейчас, сию минуту сделать то, что ты должен сделать для реализации своей судьбы». Это верное свидетельство, оно подтверждается многими мерабовскими текстами. А вот что мы находим в одном из писем Чаадаева к Михаилу Орлову: «Ничто так не истощает, ничто так не способствует малодушию, как привычка к надеждам».
В-третьих, Чаадаев и Мамардашвили предъявили обществу один и тот же категорический девиз. Осенью 1988 г. группа тбилисских студентов вышла на площадь перед грузинским парламентом с транспарантом «Истина выше нации. Мераб Мамардашвили». Открываем «Апологию сумасшедшего», написанную Чаадаевым в 1837 г., и на первой же странице читаем: «Прекрасная вещь любовь к Отечеству, но есть нечто еще более прекрасное – это любовь к истине».
Подобные совпадения не бывают случайными. Они непременно свидетельствуют о глубинном духовном родстве. Вместе с тем для меня достаточно очевидно концептуальное несходство Чаадаева и Мамардашвили. Первый был эталонным представителем русской религиозной философии, тяготел к построению глобальной историософской доктрины и к концу жизни взрастил в себе веру в особое и исключительное вселенское призвание России. Второй практиковал сугубо светское, критико-рационалистическое философствование, лишь замыкающееся на идеал христианской культуры; спекулятивную историографию он считал умственной болезнью России и никогда, ни в какой сублимации не разделял идеи национальных миссий.
Сопоставление Чаадаева и Мамардашвили – задача щепетильная и трудоемкая. Она предполагает доскональное знание их наследия и ту меру объективности, которая дается лишь годами тематически организованных исследовательских усилий. Ни таким знанием, ни такой объективностью я, к сожалению, похвастать не могу.
Я ни в коей мере не являюсь знатоком Чаадаева и сужу о нем через сравнение чужих суждений (прежде всего – равно талантливых, но идейно не совместимых биографий, написанных А. Лебедевым и Б. Тарасовым).
Может показаться, что в случае с М. К. Мамардашвили дело должно бы обстоять по-другому. Сотрудничество, соавторство и 30-летние дружеские отношения (не всегда безоблачные, но очень близкие в 1959–1964 и 1968–1969 гг.) вроде бы дают мне право считать себя человеком, который знал творчество Мамардашвили в «лабораторном подлиннике» и более других готов судить о целостном смысле его наследия. К сожалению, я не чувствую за собой и этого права. Публикация новых текстов, которую с подвижнической энергией осуществляют Ю. П. Сенокосов и И. К. Мамардашвили, сталкивает меня с сюжетами, понятиями и символами, никогда в наших беседах с Мерабом не обсуждавшимися. Более того, не могу не признаться, что впечатления, внушенные личными контактами, сплошь и рядом мешают мне адекватно понять как раз наиболее уникальные суждения Мамардашвили. Амплуа застольного собеседника заслоняет и искажает объективно-персональный философский облик («автора» в трактовке М. Фуко, «концептуального персонажа» в трактовке Ж. Делёза). Уже несколько лет я чувствую себя обязанным потрудиться над сочинениями давнего знакомого так, как если бы они принадлежали перу совершенно мне неизвестного, но всеми признанного автора. Я испытываю потребность забыть Мераба, чтобы вычитать объективно-принудительную телеологию творчества М. К. Мамардашвили (она, кстати, наиболее отчетливо проступила в 80-е гг., когда он жил в Грузии, и мы редко встречались). И я благодарен тому, что приглашение к участию в нынешней конференции наконец-то заставило меня отыскать время для такого отстраненного чтения (положить книгу Мамардашвили рядом с книгой Чаадаева и вдумываться в нее как в творение, пришедшее из такого же «далека»).
Это вводное разъяснение, пожалуй, было бы излишним, если бы не одно тревожное обстоятельство. В выступлениях и публикациях, посвященных личности и наследию М. К. Мамардашвили, почти безраздельно господствует застольно-семейно-дружеский поминальный дискурс. Вот уже пять лет мы никак не можем разойтись с церемонии скорбного прощания, никак не решаемся предать умершего земле. Сами того не отслеживая, мы мумифицируем своего выдающегося современника. Мы делаем это, когда публикуем слезные свидетельства его близости нам, когда преклоняемся, сплетаем венки из «лично нами услышанного» и вместе с тем крайне робко размышляем о том, в чем могло бы состоять продолжение его дела. Мы не замечаем, как заслоняем и губим философское содержание убожеством нашего изумления и безнадежностью формулируемых контрастов: «Мы – в лучшем случае, философоведы, эпистемологи, историки философии, политологи и культурологи с философским дипломом; он – философ в собственном смысле слова. Мы – всего лишь научные работники, подвластные академической и идеологической конъюнктуре; он – независимый мыслитель. Мы – выразители советской, при крайней отваге – российской ментальности; он – европеец до мозга костей».
Вчитайтесь в поминальные признания интеллектуалов-шестидесятников, и вы увидите, что я достаточно адекватно резюмировал их совокупный смысл. Аффект покаянного изумления подводит Мамардашвили под известное общее понятие – под категорию независимого европейского философа. В наших краях любой представитель этой категории смотрится как уникум (несет на себе печать инакости и чуда). Однако для мира в целом, для человеческого сообщества это далеко не так. Применительно к последним, «независимый европейский философ» – это достаточно обширное множество, экспоненты которого могут быть выдающимися или заурядными, яркими или тусклыми, полноценными или ущербными. К какому же рангу и типу независимых западных философов следует отнести Мераба Мамардашвили? Каковы внутривидовые достоинства лебедя, чудесным образом вылупившегося на птичьем дворе? Как он гляделся бы в своей лебединой стае?
В. А. Кайдалов говорит: «М. К. Мамардашвили, возможно, был единственным, кто держал перед собой планку современной философии». Я вполне разделяю добрые чувства, подвигнувшие Вячеслава Андреевича на сооружение этой аллегории. Вместе с тем я не могу не заметить, что его похвала столь же абстрактна, сколь сердечна, а потому сомнительна и скупа. Хотим ли мы сказать, что Мамардашвили может быть причислен к десятку лучших представителей мировой философии последней трети XX в.? Или что его книга «Как я понимаю философию» была бы на Западе бестселлером? Или, может быть, о том, что его «Кантианские вариации» достойны быть опубликованы в журнале «Kant–Studien»? Или, наконец, всего лишь о том, что он успешно выдержал бы магистерский экзамен в одном из евро-атлантических университетов? Выяснение подобных квалификационных вопросов нам, поминающим и поющим осанну, кажется чем-то бестактным и даже комичным. Но что выходит, если они не выясняются? А выходит, что, вынося Мамардашвили в свет европейской философской цивилизованности, мы одновременно помещаем его в слепое пятно нашего собственного умственного зрения и уж дальше ничего вразумительного говорить не собираемся.
Поэтому не приходится удивляться, когда представители молодого поколения, уже со студенческой скамьи ориентированные на «планку современной философской мысли», упрекают интеллигентов-шестидесятников в том, что их оценка Мамардашвили неясна, патетична и, в сущности говоря, имеет структуру «совкового парадокса». Наиболее выразительно его обрисовал в одном из последних выпусков «Общей газеты» журналист Игорь Шевелев. Он верно почувствовал, что изумления перед уникальностью Мамардашвили странным образом критериологически привязаны к понятию «выдающегося советского философа». Но «выдающийся советский философ – выражение то ли сомнительное, то ли прямо абсурдное; худшего в природе пока не существует: круглый квадрат, умный дурак». Игорь Шевелев (пока, правда, лукавым образом) внушает читателю следующее подозрение: а не дутая ли фигура этот Мамардашвили? Не по мерке ли «собственной испорченности» возвеличили его коллеги-шестидесятники? Подобное подозрение невозможно парировать или одолеть, оставаясь при застольно-дружеском поминальном дискурсе. Внутри него Мамардашвили всегда будет лишь по-нашенски не нашим, лишь по-советски западным, лишь по-лилипутски гигантским. Если же это так, то надо признать, что своими затянувшимися траурно-фамильярными плачами, своей альбомно-фотографической иконописью («его школьное прозвище», «его любимая еда», «его женщина») мы сами укладываем личность и наследие Мамардашвили под пасквилянтский каток – и остается только ждать бойкого газетчика, который его покатит. Вырваться из парадокса «выдающийся советский философ» можно, мне кажется, лишь с помощью максимально отстраненного текстологического анализа, организующегося вокруг рискованного исходного вопроса, который сразу сводит на нет права (а если быть честным, так еще и чванство) нашей близости и причастности к выдающемуся современнику. Вопрос можно сформулировать так: чего стоит Мамардашвили по расценкам независимой европейской философии? Насколько высоко он взлетел над ее контрольной планкой?
Доклад, который я предлагаю вашему вниманию, посвящен именно этому вопросу. Я уверен, что ответ на него должен и может быть отрадным. Я также надеюсь, что, более или менее точно определив, в чем состоит своеобразие Мамардашвили как современного западного философа, мы впервые получим возможность выяснить, чем он обязан России. Сразу хочу оговориться, что, употребляя это выражение, я не имею в виду ни благотворного влияния великой русской культуры, ни тем более – социально-идеологической детерминации (хотя, разумеется, ни от первого, ни от второго Мамардашвили не был свободен). Я имею в виду простую фактичность российско-советской жизни и исходивший от нее жесткий проблемный вызов.
В середине 70-х г. замечательный социолог, публицист и писатель Н. В. Новиков написал эстетическое исследование об Эрнсте Неизвестном. В этом исследовании он с большой убедительностью продемонстрировал, что изломанная и кричащая телесность скульптур Неизвестного могла появиться лишь в государстве, по которому простирался ГУЛАГ, лишь внутри режима предельного физического насилия. Нечто подобное хочу выразить и я, когда говорю, что Мамардашвили обязан России своим европейски значимым своеобразием. Уникальная стилистика и философская символика, которые он предъявил миру, могли родиться только в обществе тотальной власти и тотальной умственной подвластности. На мой взгляд, это обстоятельство (а здесь, между прочим, явная перекличка с темой «всесословного крепостного состояния», общего «полудобровольного полурабства», как она была намечена Чаадаевым) должно учитываться в анализе любого аспекта его жизни и работы, в том числе и при развертывании любимого шестидесятниками сюжета «Мераб и мы». Отношения, которые сегодня поминаются как компанейские и дружеские, были слишком тесно вплетены в режим общей подневольности, в сеть тоталитарной повседневности, чтобы их можно было задним числом утверждать в качестве экзистенциального базиса подлинного взаимопонимания.
Поэтому забудем-ка песенку «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» и вглядимся попристальнее в глубокое одиночество М. К. Мамардашвили. Сменим застольное покаяние трезвой скромностью и, выведя Мераба из «нашего круга», попробуем в меру нашей компетентности соотнести его с выдающимися западными собеседниками, коммуникацию с которыми он (оставаясь наедине с французской, итальянской, немецкой или английской книгой) строил и отлаживал на протяжении всей творческой жизни.
***
Поместить М. К. Мамардашвили в матрицу течений, школ и персонажей современной западной философии – дело нелегкое. Ранние сочинения (1965–1972) соблазняют к тому, чтобы квалифицировать его как представителя постмодернистского структурализма. Многие идеи, высказанные в «Превращенных формах», в «Проблеме сознания в работах К. Маркса» и в статьях, обличавших Сартра, перекликались с идеями Л. Альтюссера. Мераб с воодушевлением принимал девиз Альтюссера «марксизм – это теоретический антигуманизм» и не раз обрушивал его на головы своих сентиментально-романтических коллег (московских и пражских младомарксистов, тяготевших к миражам «социализма с человеческим лицом»). Мучительно и трудно, порой впадая в какое-то колдовское косноязычие, работает он над еще не родившимся концептом «анонимной субъективности». Ближе, чем кто-либо в тогдашней Европе и России, подходит он к утверждению того, что любая философская версия персональности, в сущности говоря, представляет собой метафизико-идеологическую ловушку: вездесущей Власти выгодно и нужно, чтобы мы конституировали себя эгологически, трансцендентально или экзистенциально. Более чем кто-либо он антиципирует фундаментальные декларации, которые лишь в середине 70-х гг. удадутся М. Фуко: многообразные версии подлинно современной философии объединяются наличием классической рефлексивной философии; поэтому «надо покончить с основополагающим актом субъекта», с «субъектом как дарителем смысла», надо «взорвать Я», «надо открыть некоторое «имеется», или «структуру»», которая «говорит через нас»; надо вернуться к доклассической «точке зрения XVII в., но с одним различием: не человека ставить на место Бога, но анонимную мысль, знание без субъекта, теоретическое без идентифицирующей себя субъективности».
Следует внимательно вслушаться в эти формулировки Фуко, чтобы правильно оценить событие, случившееся в нашей философии в начале 70-х гг. Я имею в виду публикацию в «Вопросах философии» известной «статьи трех авторов» (М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Соловьева и В. С. Швырева). Сочинение это было детищем Мераба: Швырев и я участвовали в нем лишь в качестве подмастерьев, да притом еще не слишком усердных. Статья буквально ошеломила молодое поколение и на целое десятилетие стала для него своего рода неофициальным катехизисом. Загадка этого эффекта, которого ни один из трех авторов не ожидал, заключалась в том, что мы очертили тему модерна и постмодерна, еще только-только наклюнувшуюся в самой западноевропейской литературе. Но как, с помощью каких терминов? Да как раз с помощью тех, еще не вполне адекватных, которые чуть позже акцентировал Фуко, а именно: классическое (рефлексивно-классическое) и постклассическое философствование.
Перекличка с постмодернистским структурализмом сохранилась и в последующих работах М. К. Мамардашвили, и надо отдать должное тем, кто внимательно отслеживает соответствующие параллели (например, публикациям М. Рыклина, который, насколько мне известно, занят сегодня детальным сравнением Пруста в исполнении Мамардашвили и Делёза).
Вместе с тем где-то с середины 70-х гг. (именно тогда, когда постмодернистский структурализм на Западе приобрел характер нового культа левых интеллектуалов, а младомарксистские восторги в России глохли или выпалывались начисто) в статьях и лекциях Мераба властно зазвучал иной мотив. Его историко-философские разъяснения, а главное, все более выразительная и элегантная моральная афористика свидетельствовали о глубокой причастности к экзистенц-философии. Прорвались как бы задержанные (или просто отложенные?) симпатии к Ясперсу, Мерло-Понти и Хайдеггеру.
Поэтому, мне кажется, совершенно правильной экспозиционная квалификация, впервые, если не ошибаюсь, сделанная замечательным чешским политологом-эмигрантом Э. Гелнером: зрелый Мамардашвили – «экзистенциальный философ, не приемлющий экзистенциализма (прежде всего – в варианте Сартра)». Той же точки зрения придерживается Н. В. Мотрошилова. По крайней мере в двух публикациях последнего времени она настаивает на том, что Мамардашвили должен изучаться и интерпретироваться прежде всего в качестве представителя феноменолого-экзистенциального философствования, причем такого, который все решительнее выдвигает на первый план проблематику симпатии, коммуникации и любви (установка, для «раннего Мамардашвили» совершенно немыслимая).
Согласимся с этой экспозицией и попытаемся выяснить, в чем же заключается своеобразие (а возможно, и уникальность) М. К. Мамардашвили как приверженца экзистенц-философии. Начнем с простейших определений, отвоеванных отечественными интерпретациями экзистенциализма еще в 60-е гг.
Основное содержание классического экзистенциализма можно резюмировать следующим образом: жизнь человека (моя жизнь) – это существование перед лицом осознаваемой неизбежности смерти. Парализующему страху физического исчезновения противостоит мобилизующий страх персональной неосуществленности. Осознание смерти есть одновременно осознание моего изначального стремления состояться, исполниться, реализоваться. Девиз «memento mori» – это сразу и непосредственно (тавтологическим образом) экзистенциальный императив: «сбудься», или «стань самим собой». Эта рефлексивная очевидность может быть развернута в два наиболее общих философско-антропологических утверждения.
1. Человек – это бытие в возможности. В каждый данный момент он еще не есть то, что он есть.
2. Человек всегда стоит перед опасностью затеряться в неподлинном, мнимом существовании. Самое известное и впечатляющее его изображение – хайдеггеровское представление о мире, где господствует das Man: где я одеваюсь, как одеваются, живу, как живут, думаю, как думают, и решаю, как решают.
Таков основной схематизм (или, если угодно, динамический формализм) конечной индивидуальной жизни, который признают и ранний Хайдеггер, и ранний Марсель, и ранний Ясперс. Камю и Сартр 40-х гг. акцентируют в этом динамическом формализме принцип рефлексивно-очевидной неустранимости свободы и достаточно убедительно демонстрируют, что представление о «причинной заданности» (не просто причинной обусловленности, а именно причинной заданности) персональных решений – это не более, чем философская идеология капитуляции перед обстоятельствами.
Признает ли Мамардашвили эту азбуку классических экзистенциальных учений? Безусловно, признает. Расхожие экзистенциальные пароли и девизы рассыпаны по всем его сочинениям, причем рассыпаны без ссылок, и это правильно. Они даются без ссылок, как давно освоенное достояние не только философии, но и социальной критики, и гуманитарной беллетристики Запада последней трети XX в.
Я просто приведу примеры. «Главная страсть человека – это быть, исполниться, состояться», – читаем мы в очерке «Философия – это сознание вслух» [1]. «Человек, – говорится там же, – это всегда лишь попытка стать человеком. Возможный человек» (с. 189). «Такова важнейшая достоверность его конечности и бренности» (с. 183). «Надо превосходить себя, чтобы быть собой в следующий миг времени» (с. 114). «Чтобы быть, нужно рисковать, хотя, казалось бы, рискуя жизнью, мы ее теряем» [2]. «Человек всегда находится на стадии становления: он не существует, он становится… Фундаментальная страсть человека – дать родиться тому, что находится в зародышевом состоянии, осуществиться» [3]. «Важнейшим фактором жизни является понятая смерть»[4]. «Без символа смерти, без того, чтобы жить в тени этого символа, – ничего нельзя понять, ничего нельзя в действительности испытать» [5].
Все это – экзистенциальная хрестоматия. По строгому счету, к ней надо отнести даже некоторые, несомненно оригинальные, историко-философские выкладки. Так, рассуждая о Декарте и не называя имени Сартра, Мамардашвили дает удивительное по краткости и четкости резюме основного, сохраняющегося мотива сартровской философии: в акте cogito полагается «такой мир, что я в нем могу мочь, каковы бы ни были видимые противонеобходимости природы, стихийно-естественные понуждения и обстоятельства» (с. 110). Сартр не предлагал такого прочтения Декарта, но, думаю, охотно бы под ним подписался.
Цивилизаторское предъявление (более того – бессылочная просветительская эксплуатация) понятийно-образного арсенала классического экзистенциализма – характерная примета «позднего Мамардашвили». И только признав и акцентировав данное обстоятельство, можно увидеть масштабное новшество, которое он вносит в экзистенциальную философию последней четверти XX столетия. Решающее преобразование состоит в следующем. Мамардашвили, во-первых, сообщает понятию смерти предельный символический смысл, тот, который предполагается в религиозном понятии «вечной погибели», и, во-вторых, он вдвигает этот символ смерти в описание самой длящейся земной жизни.
Люди могут умирать и умирают уже при жизни. Смерть прежде смерти – вот самое страшное, что может с нами произойти и, увы, происходит сплошь и рядом.
Один из наиболее существенных смыслообразов в наследии Мераба Константиновича (смыслообразов, имеющих категориальную силу) – это «зомби», выражение, которое сейчас, когда у нас на телеэкране такое множество американских триллеров, уже едва ли кому-то надо объяснять. Мы окружены зомби, мы сами зомби, наше повседневное существование, одновременно суетное и рутинное, – не просто неподлинное или отчужденное существование; это нечто большее, это в полном смысле слова инобытие, или, как выражается сам Мераб Константинович, «жизнь, которая всего лишь имитирует жизнь».
Несколько раз в тексте книги «Как я понимаю философию» встречается и выражение «жизнь после смерти». Употребляя его, Мераб Константинович имеет в виду совсем не то, что Элизабет Кюблер-Росс, Раймонд Моуди, Станислав Гроф и другие представители новейшей эмпирической танатологии. Речь идет не об агонии, простирающейся за пределы клинической смерти. Мераб Константинович имеет в виду выморочное существование, которое человек, умерший при жизни, может вести десятилетиями, и которое оборачивается вспышками преждевременной и крайне мучительной агонии, не спровоцированной никакой смертельной болезнью. Или, так будет точнее, – оборачивается приступами агониального жизнеощущения. В заметке «Мысль в культуре» Мераб Константинович передает его словами Максимилиана Волошина: «И в бреду не может забыться,/И не может проснуться от сна».
В великолепной статье «Вена на заре XX века», опубликованной в «Независимой газете» (1991, 20 окт.), он обращается к метафоре ада из книги Евгения Трубецкого «Смысл жизни»: «Ад – это вечная несмерть». Мучение состоит в том, пишет Мераб, что «ты повторяешь одно и то же, бежишь и не добегаешь… – вечный бег в аду, наказание тягомотины. Смыслом и сутью наказания в действительности является тут не физическая жестокость, а вот это самое страшное – это вот повторение. Как в вязком кошмарном сне: разыгрывается все время одна и та же история, и так без конца, т. е. нет смерти, которая бросила бы след завершенного смысла на происходящее».
За смерть при жизни, которая в каком-то смысле наступает по нашей собственной вине, приходится расплачиваться недостижимостью смерти как естественного итога человеческого земного бытия. Таково, если угодно, экзекутивное уравнение, составленное Мерабом, – уравнение, которого классический экзистенциализм не содержит даже в намеке. Это не значит, что у Мераба Константиновича нет предшественников. У него есть великолепные и всем нам хорошо известные провозвестия. Такова «Смерть Ивана Ильича» – самый выразительный в мировой литературе рассказ-некролог о философски запущенной, казенной и имитированной жизни. Рассуждения Мамардашвили похожи порой на категориальную экспликацию откровений Л. Толстого (хотя одновременно они годятся и для того, чтобы быть адекватным экзистенц-философским оформлением мыслей и переживаний, которые высказывают герои чеховской «Палаты №6» или «Ракового корпуса» Солженицына). Традиция русской художественной танатологии помогает Мамардашвили довести понятие «неподлинного существования» до крайней безжалостности, освободить его от постромантической респектабельности, которая свойственна классическому экзистенциализму.
Как же при этих предпосылках вообще представить себе персональное самоосуществление? Что может найти в себе человек, изношенный и опустошенный имитированной жизнью, и что мог бы означать глагол «сбыться, состояться» применительно к зомби?
В классическом экзистенциализме самоосуществление имеет, я сказал бы, интроспективную и реставрационную пластику. Реализуемая возможность – экзистенция, легко ассоциируется с задатком, запущенным прирожденным дарованием, интимной тайной, духовно-психологической идиомой и т. д. Экзистенциальная философия Мамардашвили эти ассоциации запрещает. Понятие экзистенции он употребляет с неохотой и осторожностью. Не устраивают его и другие стандартные экзистенциальные выражения. Например, «поиск самого себя, возврат к себе самому». Одновременно его экзистенциальный словарь обогащается совершенно новыми выражениями. В выступлениях начала 80-х гг. Мераб Константинович использует для описания динамики самоосуществления термин «возрождение», причем акцентирует в нем восстановление оригинального смысла иного, существовавшего не столько во мне, сколько до меня, в других людях или существах. Где-то в 1987–1988 гг. (в «Кантианских вариациях» и докладе «Проблема сознания и философское призвание») он с увлечением осваивает понятие «нового рождения», «второго рождения», которое встречается ему в текстах Декарта и Канта и которое (в общем-то, я думаю, он это достаточно хорошо знал) родилось в горниле реформации, в раннепротестантских учениях.
В беседах с французской журналисткой Анни Эпельбуэн (1989) в драму прижизненного самоосознания и самоосуществления вводится такое символическое событие, как «распятие и крестные страсти». И наконец, в «Картезианских размышлениях» вся проблема замыкается на символе Воскресения.
Умирание, второе рождение, очищающие муки, Воскресение… – что означают эти выражения, сочлененные в единый ряд ожидающей меня духовно-душевной истории? Ну, конечно же, все это сотериология, христианское учение о спасении. Прорабатывая свою экзистенциальную философию, Мамардашвили приходит к тому, что все основные сотериологические символы, или смыслообразы, оказываются включенными в нашу посюстороннюю, прижизненную драму. Откровенно и окончательно это фиксируется в предисловии к его последней работе «Лекции о Прусте». Он говорит так (и обратите внимание, сколь христиански грустна его речь): «Но если мы воскресаем, то уже в этой жизни, новая жизнь, новый мир – они здесь. Все по эту сторону. А раз все по эту сторону, то и вы истина. Каждый есть то, что мог» [6].
Ни в этом, ни в других процитированных мною текстах нет термина «спасение». Еще несколько дней назад мне казалось, что, определяя философию Мамардашвили как сотериологию, я высказываю догадку, которая, может быть, и верна, но у самого Мераба не нашла бы признания. Но вот, сев в поезд, идущий в Пермь, я открываю только что изданный полный текст «Лекций о Прусте» и читаю: «Первая форма, в которой появилась философская мысль, – это философия личного спасения. Она основана на предположении, что жизнь, в которой мы рождаемся, точнее – случайным образом родились (ведь нас не спросили, хотим ли мы родиться; а если хотим – то где и когда), построена таким образом, что приходится спасаться. То есть проделывать какой-то специальный путь, делать что-то с собой, чтобы вырваться из обыденного круговорота жизни, который сам по себе абсурден, случаен…»[7].
Конечно, Мераб Константинович еще не говорит здесь: «Такова первая и извечная философия; философия древних индусов и моя». Однако заглянем дальше в последний из читанных им лекционных курсов. «Я думаю не о Прусте, но Прустом думаю о чем-то», – говорится здесь[8]. – «Почему? – Да потому, что феномен Пруста – это явление спасения. В старом, простом и вечном смысле этого слова»[9]. Но если так, то «думать Прустом о чем-то» значит думать сотериологически.
Название моего доклада – «Экзистенциальная сотериология Мераба Мамардашвили» – кому-то из вас могло показаться причудливым, гелертерски кокетливым или просто надуманным. Сознаюсь, что и сам испытывал в отношении него известную публицистическую неловкость. Однако, ознакомившись с «Лекциями о Прусте», я отваживаюсь утверждать, что название моего доклада представляет собой корректно сформулированный и подтверждаемый историко-философский тезис.
Вспоминаю эпизод из конца 50-х гг., когда мы оба были молодыми людьми. Я написал тогда статью по эстетике, где туманно проповедовал, что художественное творчество – это, возможно, наилучшее приуготовление для вступления человека в царство свободы, каким оно рисуется в третьем томе Марксова «Капитала». Мераб прочел эту статью и следующим образом иронически подытожил ее на полях последней страницы: «В искусстве обрящете, искусством спасетесь!» Сегодня я думаю, что он иронизировал не только над тем, что я как бы ставил искусство на место, отводимое религией для святого подвижничества, но, возможно, уже и над тем, что я приписывал искусству миссию, которая вне религии может быть признана только за философией. «В философии обрящете, философией спасетесь» – это с полным основанием можно написать на последней странице последних мерабовских чтений.
Философия, которую практикует Мамардашвили, ни в коем случае не является религиозной философией. В устах религиозного философа немыслимы такие пассажи, как «конечный пункт трансцендирования, который за неимением лучшего можно обозначить словом «Бог»[10]. Однако апелляция этой философии совпадает с апелляцией христианского учения, а именно: «Остановись, задержись и подумай о душе, – подумай под страхом прижизненной духовной погибели». Все определения философии, которые содержатся в текстах Мамардашвили, ссылаясь друг на друга как тождественные по смыслу метафоры, – все они включены в контекст рассуждения о духовном спасении. Определения эти (поверим В. А. Кайдалову, что их не менее чем шестнадцать) трудно связать в одно целое, если сначала не сформулировать характеристику-экспозицию, которая очерчивает общий экзистенциальный проект философского поиска. Она, эта характеристика-экспозиция, могла бы звучать так: «Философия есть особая мыслительная практика, которая предотвращает смерть при жизни или помогает воскресению при-жизни-умерших». В свете экспозиции приоритетным в ряду определений философии, сформулированных Мамардашвили, становится следующее: «Философия – это самоотчет об очевидностях, самоотчет о смысле того, что я делаю». Или, что, в сущности, то же самое: «Философским следует признать всякое рассуждение о жизни, если оно развертывается под знаком вопроса о конечной цели».
***
Абстрактно говоря, люди философствуют повседневно и повсеместно. Мераб Константинович ясно обозначает это обстоятельство, когда говорит об общественной ситуации приостановки, задержки в делании дел, связанной с потребностью обдумать, а для чего, собственно говоря, делается дело, и стоит ли оно того, чтобы я тратил на него мое время и мою жизнь. (Можно сказать, что это расширительная и несуицидальная версия знаменитого вопроса А. Камю: «Стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой».) Обдумывание может относиться и к стратегии жизни, и к проблематике эффективности, и к методологии познания, и к оценке социальных и культурных условий, в которых развертывается наше поведение. Но важно, чтобы во всех случаях сохранялась одна и та же тенденция – тенденция сопротивления духовной гибели. Именно это отличает философствование, как его понимал Мамардашвили, от любых мелиоративных методологических технологий, глухих к символу смерти и понятию смертности (даже от такой впечатляющей и рафинированной, как «системно-деятельностный подход», который десятилетиями насаждался Г. П. Щедровицким и который на практике – государственно-педагогической, проектной, дизайнерской – сплошь и рядом приводил к своего рода «диверсионному эффекту», – к параличу сороконожки, которую вдруг попросили дать отчет, а как же, собственно, она переставляет свои сорок ножек).
Пока человек задается вопросом о жизненном смысле своих поступков, он жив. Перестает это делать – умирает. Это можно выразить и по-другому. Пока человек задается вопросом о цели и смысле своего поведения, он человек. Перестает это делать – он всего лишь имитация человека. Но отсюда вытекает еще и следующий вывод: в экзистенциальной концепции Мамардашвили философствование вообще превращается в существенное определение человека. Мы принадлежим к роду homo philosophicus.
Тем удивительнее, что философия одновременно рассматривается Мамардашвили и как исключительное, экстраординарное занятие.
Чем же философия, которую мы находим в сочинениях великих философов, разнится с философствованием, которое вообще отличает человека. Принципиально говоря – ничем. Отличие состоит только в том, что для человека, который посвящает себя философии, философствование превращается в свободную интеллектуальную игру, к которой, однако, приходится относиться не игровым способом, а предельно серьезно, как бы сделав ставку ценою в жизнь. Мамардашвили выразительно описывает это в «Картезианских размышлениях»: «Тезисы Декарта, – пишет он, – выражают реальный, медитативный опыт автора, проделанный с абсолютным ощущением, что на кон поставлена жизнь и что она зависит от его мыслей и духовных состояний». Итак, философствование философов – это философствование ради философствования (подобно искусству ради искусства), которое, однако, ведется с риском самого большого жизненного проигрыша, который только можно себе представить. Ради этой нешуточной интеллектуальной игры философы, как это видно, скажем, на примере Канта, сурово себя ограничивают, создают режим строжайшей дисциплины, мирской аскезы и, благодаря деятельной духовной работе, находят некоторое единое универсальное общезначимое пространство для суждений, касающихся смысла и конечных целей. Это можно выразить и так: «Философия – это высокая культура духовного выживания, которая и провоцирует, и затрудняет соответствующий повсеместный опыт». Провоцирует – потому что не дает людям забыться и окоченеть в рутине суеты. Затрудняет – потому что перекрывает слишком легкие решения пробужденных смысложизненных вопросов (не дает справиться с ними по типу галлюцинаторного удовлетворения желаний).
Еще десять лет назад последний тезис было бы трудно растолковать. Сегодня в наглядных разъяснениях нет недостатка. Сколько людей, вырвавшихся из мертвечины государственного мировоззрения, тут же отыскали псевдофилософское духовное прибежище в доморощенных (иногда – совершенно сектантских) мифах: космософских, историософских, этнософских, парапсихологических, астрологических, уфологических. Большая философия (философия Декарта и Локка, Юма и Канта, Джеймса и Гуссерля, Лосского и Франка, Витгенштейна и Поппера, Бахтина и Мамардашвили) мешает фабриковать и исповедовать эти мифы. Философское наследие – разумеется, если оно вовлечено в актуальную эпистемологическую полемику, – надежно блокирует новейшие суррогаты духовной жизни, которые Ясперс назвал «научными суевериями», а католическая, протестантская и, наконец-то, православная религиозная философия – «новым язычеством». Обращаясь к философскому наследию, люди знакомятся с известными непременными правилами, сообразно которым должно строиться самостоятельное смысложизненное рассуждение. Мало того, каждый из людей получает возможность отыскать в прошлом своего философа, т. е. такого мыслителя, который наилучшим образом осознал и сформулировал очевидности известного типа ментальных опытов.
Если перевести это в план основного экзистенциалистского рассуждения о жизни как о процессе самореализации (самосбывания, самоосуществления), то окажется, что свою собственную экзистенцию человек узнает не столько в себе самом, сколько в одном из великих мыслителей. Таково еще одно удивительное новшество, которое мы находим в экзистенциальной философии Мамардашвили, – новшество, закрепленное в следующем парадоксальном определении: «Философия – это трансцендирование человека к человеческому в нем самом» (с. 119). Трансцендирование – это ведь выход за собственные пределы, как же можно мыслить его в качестве движения, направленного к самобытию? В одной из лекций о Канте, читанных в Институте психологии в конце 70-х гг. (я не проверял, вошла ли она в «Кантианские вариации», и основываюсь на своем конспекте) Мераб Константинович так разъяснял это определение: «Бывало, я читал кантовский текст, и он меня не удовлетворял, отталкивал, казался вычурным и темным. Но проходило время, я забывал о Канте, отдавался своим размышлениям, находил какой-то свой собственный смысл и именно тогда с удивлением обнаруживал: «Да это же Кант, он уже давным-давно сказал мою мысль и сделал это гораздо лучше меня самого!» Я вдруг оказывался в пространстве удивительной кантовской ясности, которая в свое время так восхищала Гёте».
Думаю, многим из вас известен этот удивительный эффект «породнения с чуждым», – эффект неожиданного узнавания своих сокровенных догадок в самых отдаленных и «темных» философских текстах. Для Мераба данное состояние есть момент истины в единственно точном, непереносном смысле. Открывая вдруг, что и мы, грешные, и Платон, Аристотель, Августин, Декарт, Кант, Шеллинг, Кьеркегор, Гуссерль, – это один и тот же «ментальный класс»[11], мы обретаем себя самих в горнем мире досоциальных и сверхсоциальных очевидностей.
Человеку, воспитанному в традиции Просвещения и «критики идеологии», это может быть разъяснено так: в общении с великими философами ты освобождаешься «из темноты своей предзаданной жизни, из темноты существующих обычаев, из темноты социального строя» (с. 41).
Для тех, кто ищет себя самого внутри оппозиции «патриотизм – интернационализм», разъяснение будет несколько иным: «Социальное, интернациональное, патриотическое – все это указывает на известный локус, на известную страну. А если следовать внутреннему инстинкту, то ты живешь или пытаешься жить в неизвестной стране»[12]. Общение с выдающимися мыслителями утоляет «ностальгию по иномирью» (см. с. 41–42).
Наконец, для того, кто привержен православно-христианскому символу духовности, момент истины, как его понимает Мераб, может быть пояснен следующей репликой: «На языке Христа не существует Родины, не существует Народа, не существует никакого предметного (персонажно-исторического. – Э. С.) закрепления духовных состояний»[13].
В одних случаях (как в приведенном выше примере с Кантом) на наш экзистенциальный опыт откликается отдельный мыслитель: в других – филиация, которую мы сами должны отыскать и выстроить. Для Мамардашвили это могли быть Картезий – Кант – Кафка (см. с. 109–119) или Г. Сковорода — П. Я. Чаадаев — В. С. Соловьев — С. Л. Франк, но прежде всего – незавершенный ряд западноевропейских мыслителей, который оборвала и, возможно, замкнула смерть (в декабре 1990 г. коллега Улдис Тироне из Латвии откликнулся на кончину Мераба некрологом под названием «Декарт – Кант – Маркс – Гуссерль… Мамардашвили»).
Филиация мыслителей, уже до меня выясняющих мою истину, не есть кумулятивная последовательность, при которой более поздний историко-философский персонаж «снимает» и как бы концептуально высасывает своих предшественников. Речь вообще не идет «об обычной интеллектуальной последовательности. Это что-то другое, что ускользает от традиционных методов литературной критики и литературной истории. Речь идет о символической перекличке… помимо и поверх реальных связей последовательности» (с. 358).
«Символическая перекличка» не покрывается понятием диалога (хотя и не отрицает его). Здесь приходится вспомнить об образце древнегреческого симпозиума или, если угодно, об идеальном ритуале грузинского застолья, где одна и та же истина движется по кругу под формой здравицы и выясняется посредством любовных, бережных, почтительных дополнений.
Нельзя сказать, чтобы подобные смыслообразы были чем-то совсем уж неизвестным для классической западноевропейской экзистенц-философии. В интересном введении к «Великим философам», написанном в 1956 г., К. Ясперс достаточно выразительно говорил о сверхсоциальности и надвременности вселенской философской коммуникации, прямо уподобляя ее «мистическому единению вечных современников».
Принципиальное новшество, на которое решился М. К. Мамардашвили, состояло в употреблении понятия «интермитирующего Я».
Что подразумевает этот звучный и изящный латинизм?
Вспомним изречение Паскаля, одинаково ценимое как П. Я. Чаадаевым, так и М. К. Мамардашвили: «Мышление человечества есть мышление одного-единственного человека, мыслящего вечно и непрерывно». Это экспозиция к понятию «интермитирующего Я».
Мысль Паскаля долгое время остается на заднем плане рассуждений Мамардашвили, но, как я теперь вижу, где-то с 1984 г. получает стремительную феноменологическую и онтологическую проработку.
Во второй лекции своего курса о Прусте он говорит «Наша сознательная жизнь устроена таким образом, что если мы что-то до конца и по-настоящему делаем, если мы встали на какой-то путь и идем по нему, то в сделанном обязательно окажется то, что делают другие… Если мы действительно подумаем (а это очень трудно), то подумаем то, что уже подумали другие. Это закон нашей сознательной жизни, всплески внутренней единой фундаментальной организации сознательной жизни…»[14]. Именно она – и притом в качестве компоненты космического порядка, существующего до и независимо общественного бытия людей, – полагает персональное самобытие каждого из них, как бы роясь множеством экзистенций и пульсируя во множестве «вторых рождений». Лишь благодаря этому роению и пульсированию (их-то Мераб и называет интерметенцией) возможна символическая перекличка всех философствующих как вечных современников.
В лекции двадцатой Мераб Константинович идет еще дальше: мысли разных локусов и времен трактуются здесь в качестве «перевоплощений или метаморфоз одной и той же души»[15]. Мамардашвили вспоминает о мифологической теории метемпсихоза и не останавливается перед аллегорией мировой «универсальной души»[16]. Философское приобщение к ней прямо именуется когитальным бессмертием (от декартовского ego cogito).
Тексты, посвященные данному понятию [17], на мой взгляд, недостаточно ясны и даже обманчивы. Некоторые из фигурирующих в них выражений подталкивают к тому, чтобы трактовать концепцию Мамардашвили как своего рода экзистенциальный пантеизм. Я хотел бы избежать этого соблазна и остеречь от него. Мне кажется, что пантеистические аллегории Мераба – это издержки какого-то совсем иного, еще не сложившегося дискурса (скорее всего – дискурса негативной экзистенциальной антропологии). Понятие бессмертия в выражении «когитальное бессмертие», по строгому счету, подразумевает всего лишь несводимость к бренному, – неумещаемость абсолютных достоверностей cogito в наше историческое и физическое время. На психологическую потребность в бессмертии, столь существенную для приверженцев мистико-пантеистических учений, понятие это вообще не откликается. Хочу подчеркнуть в связи с этим, что экзистенциальная сотериология Мамардашвили не содержит в себе никакой претензии на овладение – с помощью философии – последними тайнами спасения в значении вечного покоя и блаженства. Там, где она выполнена точно, мы остаемся в границах философской веры, допускающей лишь то, что спасение (спасение в религиозном смысле слова), по крайней мере не невозможно.
Не менее существенна и другая сторона проблемы.
Давно замечено, что пантеистические и мистико-пантеистические учения чаще всего исполнены упования на всемогущее имманентное божество и пафоса самоотрешения от мыслящего Я. Они учат, как наилучшим образом избавиться от персональности cogito, расслабиться и потеряться в самодостаточности «мировой души». Социально-идеологически они созвучны эскапизму.
Эти установки очевидным образом противоречат всему, что Мераб отстаивал с молодых лет и до смерти. Людей, так или иначе посвящающих себя философии, он ориентировал на декартовско-кантовскую умственную самодисциплину – на персонально ответственный выбор своего пути «здесь и теперь», категорически исключающий последующее бегство с корабля призвания. Понятие «когитальный» в выражении «когитальное бессмертие» удерживает эту ориентацию.
Вслушаемся в то, как Мамардашвили вводит понятие «внутренней единой фундаментальной организации сознательной жизни», отвечающее аллегории «мировой души».
Он начинает с действия, совершаемого «до конца и по-настоящему», и с указания на исключительную трудность «действительного мышления» (таково sine qua поп всего рассуждения). Он заканчивает свой пассаж следующими словами: единая фундаментальная организация сознания «…живет только тогда, когда мы встали на свой путь, когда мы хорошо и честно работаем»[18].
Получается, что если Мераб и выплачивает дань пантеизму, то лишь такую, которой ни один эталонный пантеист и мистик принять не может.
«Мировая душа» в понимании Мамардашвили совершенно парадоксальна: она онтологически конституирует ментально-экзистенциальный опыт, но одновременно предполагает его высшее напряжение в качестве своей непременной жизненной предпосылки. Она непригодна для пантеистических упований, ибо рискует заглохнуть и погибнуть по причине людской умственной инерции. Если это и Бог, то такой, который скорее спасаем нами, нежели служит гарантом нашего спасения.
Можно выразиться и так: человеку, обремененному наследственным имуществом умственной лени (повседневно пригодными иллюзиями, предрассудками, непроясненными и путаными понятиями, диалектическими навыками бегства от точного и ответственного мышления), достигнуть когитального бессмертия также трудно, как «верблюду пройти сквозь игольное ушко». Может быть, ему и случается однажды заглянуть в надвременное царство очевидностей, но вот «остановить мгновение», удержаться в горнем мире философствования – ни в коем случае не дано.
Последнее справедливо для любых обществ и культур, но прежде всего для тех, которые упорно блокируют умственную работу целеосмысления или выдают за нее то, что «вообще на нее не похоже».
Чтобы разъяснить эти суровые констатации, мне придется отставить в сторону тему «интермитирующего Я» (завершающую, но недосказанную тему экзистенциальной сотериологии) и вновь вернуться к времени, когда философ Мамардашвили еще только вынашивал ключевую метафору «прижизненной смерти».
***
Вопрос о судьбах актуального непрофессионального философствования и о том, в какой мере профессиональная философия соответствует требованиям культуры духовного выживания, особенно остро стоит в обществах, которые стесняют, а то и просто ставят под запрет проблематику смысла и целеполагания. Можно утверждать, что стеснения и запреты подобного рода принадлежат к самым существенным признакам тоталитаризма. Их омертвляющее воздействие дает о себе знать даже тогда, когда диктаторская система слежки и репрессий уже слабеет.
В хрущевское время (если мне не изменяет память, на XXII съезде партии, ознаменованном решением о выносе тела Сталина из Мавзолея) был провозглашен известный коммунистический девиз: «Наши цели ясны, наши задачи определены – за работу, товарищи!» Этот девиз был не чем иным, как запретом под формой патетического призыва, – запретом на какое-либо самостоятельное решение или перерешение в вопросе о конечной цели и смысле любой сферы деятельности. Я помню, как, услышав эту риторику, в общем-то далекую от диктаторских угроз, Мераб Константинович сказал: «Хватит надеяться на оттепель – эта фраза равносильна обратному внесению Сталина в Мавзолей!» Он расслышал в ней ностальгическую тоску по времени, когда на долю людей оставляется лишь вопрос «как», т. е. вопрос о механизмах и методах осуществления предрешенных задач. И действительно, уже вскоре стали отчетливо видны соответствующие последствия: огромная масса философской литературы была подогнана под рубрику «методологические проблемы». Сведение философской проблематики к методологической (т. е. к вопросу о том, как лучше делать уже назначенное дело и как лучше искать уже запрошенное знание) стала очередной, наиболее удобной для данного момента формой обеспложивания философской работы. Как это ни парадоксально на первый взгляд, но это действительно был симптом приближавшейся ресталинизации.
И самым основательным неполитическим протестом против последней следует признать просто поведение профессионального философа, который в противовес академической и кафедральной методологической мертвечине 70-х гг., начал гласно, прилюдно развертывать перед людьми свободную интеллектуальную игру, связанную с проблематикой очевидности, смысла и конечной цели. Но это как раз и был тот путь, который выбрал М. К. Мамардашвили, когда начал выступать перед разными аудиториями со своими заранее не заготовленными, импровизированными чтениями. Именно эту неполитическую антитоталитарную практику он и обозначил позже своим известным изречением: «Философия есть сознание вслух».
Чтобы понять полный смысл этого изречения, надо обратиться еще к одному существенному измерению экзистенциальной сотериологии М. Мамардашвили.
Мераб Константинович делал очень серьезный новаторский шаг, когда предельно заострял и драматизировал традиционную экзистенциалистскую тему неподлинного существования, – драматизировал с помощью сотериологических символов умирания при жизни и смерти при жизни. Но он шел еще дальше, разъясняя сами эти символы с помощью метафоры, заимствованной из физики, – метафоры вселенского энтропийного процесса, завершающегося тепловой смертью Вселенной. Мераб Константинович настаивает на том, что не только природе, но и культуре, и духу, и мышлению свойственна тенденция к разупорядочиванию. В самом общем виде она может быть обозначена как регрессия к варварству, ставящая общество на грань антропологической катастрофы.
Регрессия к варварству (или просто «одичание мысли») не есть следствие той или иной социально-политической организации. Социально-политическая организация лишь использует, лишь эксплуатирует стихийную энтропийную тенденцию, свойственную самой цивилизации и каждому человеку как носителю ума и культуры. Рядом с трактовкой человека как существа философствующего, т. е. предрасположенного к тому, чтобы все жизненные практики ставить под вопрос о смысле и конечной цели, появляется инвективная характеристика человека, которую Мераб Константинович не столько формулирует, сколько с горечью выкрикивает: «Человек ведь это существо фантастической косности и упрямой хитрости: он готов на все, только чтобы не приводить себя в движение и не ставить себя под вопрос» (с. 138). Говоря образно, энтропийная тенденция присутствует в каждой человеческой голове и каждый человек обязан дать себе в этом отчет.
Это получает выражение – весьма оригинальное выражение – в эпистемологической концепции Мамардашвили: в его понимании истины вообще и смысложизненной, философской истины – в частности и особенности.
Давно замечено, что с эпистемологической точки зрения классический экзистенциализм может быть причислен к типу философий откровения. Экзистенциалисты, особенно М. Хайдеггер, настаивают на том, что истина не столько постигается нами в меру наших усилий, сколько сама открывается нам в страдательно-творческом опыте претерпевания жизни. Она даруется нам от Бытия при соблюдении известных правил эпистемологической гигиены и вместе с тем достаточно неожиданно и внезапно. Явившись человеку однажды, достоверная мысль остается с ним навеки.
Согласен ли с этим М. Мамардашвили? Да, во многом согласен. Его эпистемология полемически заострена против благодушной сциентистской иллюзии, будто мы строим или добываем истину в меру нашей методологической вооруженности, с помощью расчетливо расставленных дорожных ориентиров, вех и силков. Мамардашвили высмеивает эту иллюзию, прибегая к аллегории неблагопристойной, но завидной по точности: «Истину нельзя искать так, как ищут уборную». Классический экзистенциализм не совершает ошибки, когда говорит, что истина сама нам открывается. Мамардашвили принимает это и, когда требуется, высказывается по данному поводу с выразительностью, достойной Хайдеггера. Он утверждает, например, что мы, в сущности говоря, впадаем в истину, что она сплошь и рядом вспыхивает в умах, не обнаруживавших никакого методологического упорства в отыскании адекватных отображений сущего. Именно в этом смысле он толкует евангельское изречение: дух Божий витает, где хочет.
Но вот дальше обнажаются существенные различия между классическим экзистенциализмом и экзистенциальной сотериологией.
Мераб Константинович настойчиво подчеркивает, что истинное содержание мысли, даже если оно нас облюбовало, потрясло и изумило, само по себе не держится в уме. Он говорит о «склонении мысли», об эффекте «смыслового распада», особенно ощутимом, если усмотренная нами истина оказывается горькой и невыгодной, – если она налагает на нас бремя новых нравственных и интеллектуальных обязанностей.
О роковом «склонении мысли» приходится помнить на всех уровнях сознания, вплоть до уровня когитального бессмертия. Даже тогда, когда человек с ослепительной ясностью осознает надвременность открывшихся ему очевидностей, как бы «распаковав зарю своего будущего дня» (Наби Балаев), он не застрахован от мгновенного затухания этого ментального небесного света. Какой бы заоблачной, какой бы сияющей ни была достигнутая высота, «философская мысль все равно напоминает сидение на очень скользкой вершине, на которой удержаться невозможно: все время соскальзываешь и каждый раз заново нужно впихивать себя на эту вершину, и так бесконечно»[19].
Позволю себе одно свободное (и вместе с тем, мне кажется, достаточно обоснованное) рассуждение в жанре «народной этимологии». В русском языке «мышление» и «мышь» – это близкокоренные слова: мышление – это мышканье ума, а мысль – мелькающая мышь ума. Она появляется и тут же прячется куда-то в нору, если привычная реальность ее пугает. Ее мало выманить, ее надо еще поймать и удержать.
Мамардашвили уделяет огромное внимание культуре фиксации явившихся или выманенных истинных содержаний. Мысль улавливается посредством метафоры (Мераб Константинович многократно демонстрирует, как это делается; по верному наблюдению Е. Ознобкиной, «метафора у Мамардашвили – это вообще основное средство транспортировки однажды усмотренных идиом»).
Мысль, уловленная в метафору, продолжает удерживаться с помощью ее аналитического развития, распутывания, выявления всех возможных логических экспликаций. И наконец, с помощью беспощадной верификации эксплицированной достоверности.
Все это в совокупности определяется Мамардашвили как «режим сознательной жизни». Индивидуальное сознание есть то место, та точка, где достоверный смысл является и распадается (регенерирует). Но то же самое сознание, переведенное в «режим сознательной жизни», есть пространство, где смыслы фиксируются, развертываются и упрочиваются с помощью новых и новых проверок. Оно не что иное, как очаг негэнтропии (или, если воспользоваться выражением П. Флоренского, «эктропии»), спасающей культуру от регрессии, от «тепловой смерти». Духовная работа по удержанию истины представляет собой, в сущности говоря, никогда не прекращающийся процесс. Тот, кто его осуществляет, напоминает человека, ринувшегося с горы: он должен бежать все быстрее, чтобы не упасть. Напряженность этого «удерживающего движения» особенно высока, если общество, внутри которого пребывает «человек философствующий», тяготеет к нравственно-волевому оскоплению, деперсонализации и «зомбированию» своих членов.
Ключевое слово философской концепции Мамардашвили (слово, которого не ведает классический западный экзистенциализм) – это усилие. Усилие удержания истины, духа и самой жизни. Оно могло быть найдено лишь экзистенциальным мыслителем, всею плотью ощутившим, что такое загнивающий, во смерть засасывающий коммунистический тоталитаризм. Это же можно сказать и об экзистенциальной сотериологии в целом. Она нова и оригинальна по отношению как к российской, так и к западной философской традиции. Она родилась из российского опыта, испытанного человеком, который духовно идентифицировал себя с Западом и был, как никто, далек от каких-либо версий исключительной и мироспасительной «российской ментальности».
Мамардашвили имел много поводов воскликнуть вслед за Пушкиным: «Черт угораздил меня родиться в России с умом и талантом!» Или вслед за Чаадаевым затеять отчаянную игру в «лишних людей» и предъявить свой европейский образ мысли под титулом «Апологии сумасшедшего» («лишний, как мысль в мозгу дурака», – так аттестовал я Мераба в стихотворении, преподнесенном ему в начале 70-х гг.). Возможно, что в сердцах он и позволял себе нечто подобное. Но знаменательно, что опубликованные тексты (а это главное, на основании чего мы должны судить о нем) как бы отфильтровывают любые снобистские фиксации горькой чужеродности и акцентируют иной аспект проблемы. «Я теперь знаю, – говорил Мамардашвили в 1990 г., – что у меня была, в общем, выгодная точка обзора, позволяющая увидеть те вещи, которые могут пройти мимо внимания европейца»[20]. Не от внутрироссийского жребия, а от других коллег по европейскому философскому цеху отличал он себя здесь. Что касается друзей, которые тянулись прильнуть к нему в своем переживании суетности, изнурительности и иррациональности российской жизни, то им он ответил речью человека из «иномирья», лежащего по ту сторону любых Европ, – утешительным девизом экзистенциальной сотериологии: «Душа вечна, а место ее пребывания случайно[21]». Таковы, как оказалось, были последние слова Мераба Мамардашвили, высказанные в режиме «сознания вслух».
- Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1987. С. 180. (В дальнейшем в скобках даются страницы этого издания без указания названия. – Э. С.)↑
- Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1996. С. 138.↑
- Литературная газета. 1991. 6 марта.↑
- Мамардашвили М. Лекции о Прусте. С. 138.↑
- Там же. С. 15.↑
- Общая газета. 1995. 14 сент.↑
- Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. С. 11-12.↑
- Там же. С. 313.↑
- Там же. С. 129.↑
- Вопросы философии. 1992. N 5. С. 10.↑
- См.: Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. С. 378.↑
- См.: Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. С.525.↑
- Там же. С. 72-73.↑
- См.: Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. С.28.↑
- Там же. С. 357.↑
- Там же. С. 360.↑
- Там же. С. 309-310, 358-362, 385-386.↑
- См.: Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. С.28.↑
- См.: Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. С.390.↑
- Литературная газета. 1991. 6 сент.↑
- Это часто цитируемое высказывание М.К.проясняет, например следующий пассаж из «Вильнюсских лекций»: «… назначение человека есть предназначенность ему своим усилием, или напряжением, заполнять оставленную для него пустоту, заполнять ее своей силой. А для силы нужна воля. Добавлю, что это назначение… не ограничено условиями и границами нашей жизни… Если угодно, назовите это бессмертной душой. … пустое место, предполагающее занятие его силой со стороны существа, которое должно иметь волю к силе, индивидуализирует, и оно же еще означает следующую простую вещь: это есть нечто, в чем никто никого не может заменить, где нет разделения труда, кооперации и помощи добавлением во времени из «другого». Вот второй смысл слов «бессмертная душа» — это то, в чем ты один, и только ты, и, более того, никто и ничем не может тебе помочь». «Вильнюсские лекции по социальной философии». Азбука, 2012. C. 51, 54. - Примеч. Е.Мамардашвили.↑