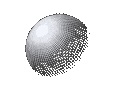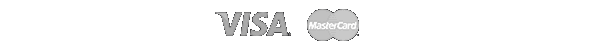Эстетический смысл трактовки акта познания и ее европейские истоки в философии Мераба Мамардашвили
© , 2009
Вступление и постановка проблемы
В оценке, которую Мамардашвили дает своим начальным философским усилиям, нельзя не заметить предлагаемую им частичную реконструкцию его «встречи» с некоторыми философскими текстами. В интервью для Радио Франции (Французская Культура) он вспоминает:
«Меня относило на остров потоком моего чтения; чисто случайно это оказались французские книги: Монтень, Ла Боэси, Монтескье, Руссо. Они-то и сформировали мою юность. (…) Главным моим открытием стал чисто французский дар жить! Жить изо всех сил, напряженно, интенсивно: не конструировать теории о свободе, но жить свободой. Жить свободой внутри, в конкретном опыте, и сделать этот опыт прозрачным и гармоничным» [1].
«Французский дар жить» Мамардашвили где-то в другом месте называет «французской страстью», имея в виду опыт «человека, который стоит один на один с миром и готов на своих плечах нести всю тяжесть риска и ответственности» [2].
В этой связи возникает вопрос, как это совпадение встречи с французскими авторами и «французского дара жить», или «французской страсти», дало ориентацию дальнейшему интеллектуальному пути Мамардашвили – пути, который вел через классическую западную мысль, от Платона к Канту и Гуссерлю, а что касается литературы и театра – от Данте к Прусту и Арто.
Однако мы не станем предпринимать попытки продемонстрировать линейную эволюцию или последовательное развитие философии Мамардашвили. Нашей задачей будет найти некоторые линии пересечения, некоторые узловые доминирующие проблемы, в свете которых Мамардашвили развивал свое собственное оригинальное мышление. Эти маршруты берут начало в той самой случайной встрече с «французским даром жить»; своего рода тематическая красная нить соединяет их и дает отсылку друг на друга в несистематическом, спирально разворачивающемся мышлении.
Мы рассмотрим одну из таких то и дело встречающихся тем, а именно вопрос, касающийся способности выполнить акт познания «в конкретном опыте». В таком случае проблема будет сформулирована следующим образом: каковы заметные характеристики конкретного, оригинального и не стереотипного опыта процесса познания? Как Мамардашвили развивает теорию познания на основе некоторого центрального элемента, соединяющего идеи Платона, Декарта, Канта, Пруста и Арто?
Из-за несистематического характера философии Мамардашвили необходима методологическая и стилистическая преамбула для разъяснения теоретических мотиваций, лежащих в основе его своеобразного и свободного использования философского материала, – мотиваций, проистекающих из самой его концепции философии в целом. Мы проанализируем — со ссылками, в основном, на лекции Мамардашвили о Декарте, Канте и Прусте – процесс познания и со стороны субъекта, и со стороны объекта. Мы выясним способ, с помощью которого Мамардашвили определяет акт познания как изначальный творческий акт, «акт гениальности», никогда не осуществляемый «раз и навсегда», приводящий в движение структуры, благодаря которым объект помещается в систему связей, гарантируя появление смысла объекта. Мы также рассмотрим мамардашвилиевскую идею объекта как кристаллизации, или конденсации, этой системы связей, особо принимая во внимание степень увязывания этой идеи с феноменологическими посылками, одновременно учитывая способ, с помощью которого Мамардашвили выводит, как бы «выталкивает» свое доказательство за пределы феноменологической формулировки проблемы.
Центральный вопрос состоит в следующем: можно ли сказать (учитывая аргумент Мамардашвили, касающийся акта познания как изначального акта, «акта гениальности», и объекта как символической кристаллизации системы связей), что акт познания сам по себе содержит эстетический смысл? И если эстетический смысл можно увидеть в любом акте познания, претендующим быть «конкретным знанием», тогда что Мамардашвили понимает под «эстетикой»? Понимает ли он «эстетику» в общепринятом сегодня смысле, как философию искусства или, скорее, традиционно, как чистую теорию чувственного познания? Или же он понимает ее неким иным образом?
В определении «эстетики мышления» мы должны принять во внимание влияние теории театра Арто на теорию познания Мамардашвили, – через идею жестокости, вытекающей из необходимости жить и испытывать «на собственной шкуре» то, что никогда не выполняется «раз и навсегда». Таким образом, акт познания имеет не только эстетический, но и этический аспект. То есть определение «эстетики» у Мамардашвили включает и этическое измерение. Соединение эстетического и этического измерений и есть то, что Мамардашвили называет «даром жизни», – как ответственность перед познанием, как задача, которая в любом случае должна быть «театрально» исполнена, – тот самый «дар жизни», который восхищал Мамардашвили во время его чтения французских защитников свободы, а также Канта и Арто.
Стилистические замечания и методологический подход
Мераб Мамардашвили – философ, которого невозможно поместить в рамки какого-либо узкого определения: родившись в Грузии, получив образование в Москве в условиях господства марксистско-ленинской философии, он не был ни представителем официальной советской философии, ни диссидентом. Его интересовали классические западные философы, но он также часто ссылался на русскую и грузинскую культуру и советский культурный контекст. Без сомнения, он был удивительным и харизматичным философом, развившим свое мышление внутри, но в большей степени вне официальных академических границ, и имел широкий успех у своей аудитории и у студентов. Действительно, мы можем получить некоторое представление об атмосфере его публичных выступлений, поскольку наиболее значительная часть опубликованных трудов основана на записях его лекций и в особенности на записях его различных учебных курсов.
Одной из причин обаяния философствования Мераба Мамардашвили была его удивительная способность создавать систему отсылок к различным авторам, не ограничиваясь временными и пространственными критериями. От Пруста к Арто, от Данте к Пастернаку – взаимодействие отсылок охватывало широкий круг философов, поэтов, художников и творческих личностей вообще; все они были действующими лицами «живого события» его лекционных курсов. Поскольку трудно четко определить его культурную принадлежность, мы можем сказать, что эта система отсылок к различным авторам была своего рода духовным домом для Мамардашвили: он использовал основные понятия своих любимых авторов в качестве пластичного и послушного материала для того, чтобы выстроить собственную мысль поразительно свободным и независимым способом.
Итак, подход к философии Мамардашвили не равнозначен подходу к систематической философии. Войти в многоуровневое поле его мысли и попытаться сориентироваться в нем можно лишь с помощью «конкретного опыта», построения своего рода топологии того, что мы назвали его духовным домом.
Такой подход мотивирован не только методологическими соображениями: он проистекает из самой концепции философии в работе Мамардашвили. Во-первых, он не представляет философию как сумму знаний, которая может быть передана от одного индивидуума другому, а всегда как личный опыт выражения «обостренного чувства сознания» (Р XIX. С. 87), «приобретения собственного опыта», возможности понимать что-либо. Во-вторых, чтобы понять, что подразумевает автор, необходимо, согласно Мамардашвили, воссоздать его мышление как живую возможность собственного мышления.
«Философия не может никому сообщить никакой суммы и системы знаний, потому что она просто не содержит ее, не является ею. Поэтому и учить ей нельзя (…) Ибо только самому (и из собственного источника), мысля и упражняясь в способности независимо спрашивать и различать, человеку удается открыть для себя философию, в том числе и смысл хрестоматийных ее образцов, которые, казалось бы, достаточно прочитать и значит усвоить. (…) Это относится и к чтению давно существующих философских текстов. Хрестоматийные образцы должны рождаться заново читателем» [3].
В-третьих, философское мышление вообще является вневременным: это сфера, в которой идеи различных мыслителей встречаются в диалоге друг с другом. В своих лекциях о Декарте Мамардашвили говорит: «Если кто-то когда-то выполнил акт философского мышления, то в нем есть все, что вообще бывает в философском мышлении» (Картезианские размышления, далее – КР. С. 80). Это означает, что в тот момент, когда он выполнил данный философский акт, индивидуальный мыслитель вступает в пространство смысла, в котором уже не действуют законы временной последовательности. Здесь – пространство, в котором мысли разных авторов вступают друг с другом в отношение резонанса, – пространство, в котором нужно ориентироваться посредством топологического наброска, т. е. нарисовав своего рода «карту».
С учетом всего этого мы и должны рассматривать ту роль, которую артистическая экспрессия играет в философии Мамардашвили. Иначе говоря, мы будем рассматривать роль, которую играют литературы как важные и авторитетные «собеседники» в философских дискуссиях Мамардашвили. Здесь необходимо напоминание, касающееся его биографии. Как мы уже видели, если оставить в стороне марксистско-ленинское университетское образование, Мамардашвили был «самообучавшимся» интеллектуалом. Он изучил широкий спектр литературных источников – от Данте до французских защитников свободы и до «романа воспитания» (Bildungsroman), – все они были в тбилисской библиотеке, несмотря на деятельность цензоров (она была менее эффективна на периферии СССР).
Но есть и более глубокая причина этого эстетического образа мышления, который неверно было бы приписывать чисто стилистическим предпочтениям; эту причину следует искать в склонности Мамардашвили к «устной», а не к «письменной» философии, к беседам в сократическом стиле, когда каждое выражение мысли в целом оказывается вовлеченным в живой диалог. Можно сказать, что в таком диалоге нет различия между артистической и философской экспрессией, но скорее существует различие между оригинальностью и стереотипностью, живой мыслью и ее противоположностью. Связь с артистической экспрессией заключается не в «заимствовании» более продуктивного языка, с использованием литературных образов для лучшей иллюстрации философских концепций: искусство и философия – достаточно различные выражения уникальной живой мысли, проистекающей из всякий раз персонального и рискованного акта ответственности.
Со стороны субъекта: акт познания – соgitо
Выстроить топологию «пространства» (в обсуждаемом смысле) означает в первую очередь распознать определенные «места», или указатели, которые могут помочь ориентироваться в этом пространстве. Мы повторим интеллектуальный путь Мамардашвили в отношении теории познания и особенно обратим внимание на то, как он определяет основные характеристики «живого познания». В этой области опорами для Мамардашвили являются Платон, Декарт и Кант.
Эти три опоры на самом деле являются одной трехчастной опорой, стоящей на идее акта cogito. В своей лекции о Канте Мамардашвили говорит: «Я называю когито то декартовским, то кантовским; речь идет, по моему глубокому убеждению, об одном и том же» (Кантианские вариации, далее – КВ. С. 233).
В лекции о Декарте говорится: «Когда я снова перечитывал Декарта, во мне все время настойчиво, как idее fixe, всплывало платоновское рассуждение» (КР. С. 198). Согласно пониманию Мамардашвили, Платон, Декарт и Кант разделяют общий для них «трансцендентализм», означающий использование человеком концептуальных инструментов, с помощью которых можно понять опыт, – инструментов, которые не следует принимать как данность, как наличествующие в физиологическом устройстве человеческого мозга, но которые, напротив, должны быть приведены в движение, чтобы любой познавательный опыт был истинным или аутентичным, а не стереотипным. Мамардашвили говорит:
«Человека без трансцендирования нет. Его нет без выхода за рамки природно-данного и без построения чего-то другого, например, ритуала подобно машине, также производящего в человеке человека или в животном человека» [4].
Итак, выход за рамки эмпирического и есть то, что делает человека мыслящим существом, понимающим опыт, способным привести в движение определенные структуры и формы для понимания опыта. Однако эти формы не принадлежат опыту самому по себе. Мамардашвили поясняет: «Для понимания эмпирии должны существовать условия, которые сами не являются эмпирическими» [5]. Мамардашвили определяет эти структуры или условия как интеллектуальные элементы, выраженные «в понятиях, которые обладают свойством ясности-неясности, света-тени» [6]. А эти структуры каким-то образом проистекают из акта. Когда Мамардашвили ведет речь о картезианско-кантианском cogito, он в первую очередь имеет в виду акт объединения «Я», существующего в мире, и «Я», мыслящего мир. Он говорит:
«Для Декарта сознание есть непосредственное видение предмета, та же палка слепого, прикасающаяся к предмету. Это как бы надутое состояние, объединяющее и предмет, и того, кто видит, ощущает и чувствует» (КР. С. 286).
Такое состояние необходимо поддерживать с помощью «надутого напряжения» (КР. С. 287). По словам Мамардашвили, это напряжение скорее напоминает платоновское понятие эроса как «символ стремления разорванных, разошедшихся половинок к воссозданию своего первоединства» (КР. С. 199), причем две разорванные половинки – «Я» в мире и «Я», мыслящее мир. Это означает, что нельзя знать что-либо, не пройдя через конкретный опыт акта познания, который предполагает участие, усилие, являющееся не своего рода интеллектуальным процессом, а реальным событием в мире.
Отправляясь от анализа, развиваемого Кантом, Мамардашвили придает особое значение различным аспектам акта, лежащего в основе процесса познания и придающего ему единство. Что же это за акт, учреждающий и гарантирующий любой процесс познания? В одном пассаже своего курса о Канте Мамардашвили определяет этот акт как «акт гениальности» (КВ. С. 171). Чтобы понять, что стоит за этим утверждением, используем пример, приведенный самим Мамардашвили в его курсе лекций о Декарте. Мы можем мысленно нарисовать круг, положенный на прямую линию, и спросить кого-нибудь, что означает этот рисунок. Но как только мы говорим, что этот рисунок изображает мексиканца на велосипеде, увиденного сверху, каждый понимает, о чем идет речь. Узнавание мексиканца в статичном изображении круга, положенного на прямую линию, – это не простое восприятие круга и линии (КР. С. 265).
Действительно, то же самое справедливо для любого акта познания. Сумма восприятий объекта, его цвет, форма, вес и т. д. не дает смысла этого объекта. Акт познания не только сумма его компонентов. Есть и что-то еще: элемент «гениальности», своего рода добавочная стоимость, которая и предоставляет возможность связать различные восприятия в систему, так что смысл объекта каким-то образом появляется из этого акта и из множества чувственных элементов можно узнать, определить и назвать объект. Знание об объекте – это индивидуальная конфигурация, акт, в котором необратимым образом индивидуализируется мир (КВ. С. 45). И эта конфигурация, этот акт, индивидуализируют мир в символической форме, так как смысл объекта познания дается полностью и не может быть разделен на компоненты. Кроме того, поскольку акт познания есть приведение в движение структур, индивидуализирующих именно этот объект, который здесь и сейчас передо мной, акт познания никогда не завершен раз и навсегда. Если ты понимаешь что-то сегодня, это не гарантирует, что ты будешь по-прежнему понимать это и завтра. То есть вроде бы нельзя принимать за данность, что я всегда буду видеть мексиканца на рисунке. В каждом случае я должен выполнить акт соединения восприятий в систему, которая позволяет появиться смыслу объекта.
Мамардашвили пишет:
«… все время снова приходится все делать, каждый раз заново, независимо от того, свершился ли мир до этого момента, проявилось ли в нем действие законов, упорядочивающих мир, – все прошедшие времена безразличны, ибо теперь и сейчас ты должен воспроизводить из себя и мир, и себя в мире» (КВ. С. 33).
Другими словами, мир никогда не понят полностью, а так называемая объективность не есть нечто лежащее где-то вне нас, нечто, с чем мы постоянно сверяем наш разум (adequatio mentis ad rem).
Наконец, процесс познания – это реальное событие объединения, которое не гарантировано, если в каждом случае не осуществляется новое усилие. Понимание подразумевает вовлеченность в процесс познания, постоянное созидание моего места в мире. Чтобы понять что-то, нужно, чтобы нечто другое возникало снова и снова. Вовлеченность необходима не только для того, чтобы гарантировать правильность процесса познания. Всегда незавершенный акт познания – это в некотором роде вопрос о жизни или смерти. В процессе своего чтения Платона, Декарта и Канта Мамардашвили ищет не определение серии гарантий точности процесса познания, но идентификацию инструментов, которые мы должны проверить на опыте в живом акте познания. В начале своего второго курса о Прусте он поясняет это так:
«… нужно совершать усилие, чтобы оставаться живым. Мы ведь на уровне нашей интуиции знаем, что не все живо, что кажется живым. Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и делаем, – мертво. Мертво (…), – потому что подражание чему-то другому – не твоя мысль, а чужая. Мертво, потому что – это не твое подлинное, собственное чувство, а стереотипное, стандартное, не то, которое ты испытываешь сам. Нечто такое, что мы только словесно воспроизводим, и в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное, личное переживание». (Психологическая топология пути. СПб.: Нева, 1997, далее — ПТП. С. 7).
Со стороны объекта: феноменологический взгляд
В живом акте познания есть не adequatio с так называемой объективностью; мы должны идентифицировать роль объекта в процессе познания, а также основные характеристики особой идеи объекта, которую Мамардашвили описывает в своих работах.
Что это за объект, смысл которого никогда не дается раз и навсегда, но должен время от времени возникать посредством «акта гениальности»? Если для постоянного вопрошания о смысле объекта в каждом случае необходимо новое усилие, это означает, что должно существовать нечто, делающее это усилие сколько-нибудь ценным. Как если бы мы сказали, что объект познания может быть лучше понят в качестве объекта желания или что влюбленный может сообщить нам о познавательном процессе больше, чем незаинтересованный ученый. Это одна из причин огромного интереса Мамардашвили к произведению Пруста, которому он посвятил два курса своих лекций (в 1982 и 1984 гг.).
Динамика процесса познания, со специальным вниманием к стороне объекта, составляет центральную тему этих курсов лекций Мамардашвили о Прусте. Было бы абсурдным приписывать мышлению Мамардашвили линейное развитие; тем не менее будет справедливым сказать, что в курсе о Прусте, в отличие от курсов о Декарте и Канте, сконцентрированных на акте познания с точки зрения субъекта, своеобразное предпочтение отдается рассмотрению объекта. Объект, согласно его определению в курсе о Прусте, характеризуется как «впечатление» (impression) в прустовском смысле слова, т. е. как нечто находящееся в определенной позиции по отношению к нам. Оно никогда не является нейтральным и должно каким-то образом быть расшифровано. Если в акте познания заключена возможность создания системы отсылок, дающая объекту смысл, то в своем курсе Мамардашвили представляет объект как конденсацию, или кристаллизацию, этой сети отсылок, используя роман Пруста в качестве «материала» для философского исследования.
Кроме того, эта сеть взаимосвязанных точечных отсылок соединяет каждый из моих актов познания с моим прошлым и некоторым образом с моей судьбой. Мамардашвили использует термин первовместимость для обозначения включенности объекта в эту систему отсылок. Мы не знаем все объекты одинаково; мы не хотим знать все. Есть причина, по которой мы знаем одно, а не другое: это происходит из-за первовместимости определенного объекта, который может быть релевантен или индифферентен нашему способу видения. Мамардашвили поясняет это так:
«Мы ведь не всегда волнуемся. (…) И часто в ситуациях, когда мы по формальным критериям или предметным критериям должны были бы волноваться, мы холодны как камень» (ПТП. С. 25). Следовательно, объект не может быть понят как нейтральный, но всегда «нагружен» неким интересом или желанием со стороны субъекта. Это происходит потому, что структура сознания, продукт жизни субъекта в течение времени, подобно паутине, изначально включена в определение смысла объекта.
Итак, мы можем идентифицировать два значимых феноменологических положения, в свете которых Мамардашвили читает произведение Пруста. Во-первых, акт познания – событие в мире. Это означает, что законы и структуры процесса познания не даются раз и навсегда. Они вступают в силу каждый раз, когда я думаю, – каждый раз снова и снова.
Во-вторых, я могу понять что-то о самом себе как о мыслящем субъекте только в конкретном событии и посредством конкретного события процесса познания. Нет никакого короткого пути к так называемому субъекту или к объекту, к «вещам вне меня». Реальный смысл щеки Альбертины или лица Рашели не дан с помощью внешних характеристик щеки или лица. Существует способ, с помощью которого Марсель приводит структуру своего сознания в движение, поскольку в этой структуре или поле смысл объекта его желания обретает форму. Но Мамардашвили «выталкивает» свое доказательство за пределы феноменологической формулировки проблемы. Он говорит, что:
«…Пруст глубже и лучше решил феноменологическую проблему, чем Гуссерль. (…) Вот в чем была ошибка Гуссерля (…) – он предполагал, что можно наблюдать феномен. То есть можно решить наблюдать феномен» (ПТП. С. 168).
Центральная идея курса о Прусте и состоит в показе того, что процесс познания есть скорее ответ на внешний вызов, который побуждает нас выполнить задачу. Как и в «Божественной комедии», где души совершивших самоубийство, превратившиеся в кусты, лежат, протягивая ветви к Данте, призывая его услышать их историю и обнаружить их настоящую идентичность, заключенную в чужую материю (ПТП. С. 63).
Акт познания как произведение искусства: его эстетический смысл
Со стороны субъекта акт познания является действием гениальности, которая индивидуализирует объект и высвобождает его смысл скорее как некоторого целого, нежели суммы частей. Мы могли бы сказать, что акт познания является действием такой «гениальности», которая всегда индивидуализирована, личностна, дискретна и символична. Как если бы каждый акт познания был подобен творческому акту создания произведения искусства, чему-то преходящему (вот почему употребляется в несколько необычном смысле слово «гениальность»).
«А теперь представьте, – говорил Мамардашвили на лекциях, – что я должен координировать сознательным усилием все части системы, чтобы увидеть этот микрофон. В этом случае каждое обыденное зрительное восприятие, малейший его реализованный, состоявшийся акт были бы равны гениальности. (…) мы осуществляем акт видения, не восстанавливая в сознательной последовательности, не располагая во временной последовательности связи сами акты координации, которая произошла и выразилась в «я вижу это», «я вижу нечто». Если бы мы приписывали подобную координацию какому-нибудь действующему агенту, то к нему мы должны были бы применить термин «гениальность», добавляя «непреднамеренная», как если бы это был артист, который создает произведение» (КВ. С. 171).
Но как мы можем помыслить акт познания в качестве произведения искусства? Можем ли мы, если принять во внимание аргументы Мамардашвили касательно главных характеристик акта познания, говорить об эстетическом аспекте в этом акте как таковом?
В философии Мамардашвили существует своего рода музыкальная тема, она появляется в различных вариациях во многих его работах, но никогда не ведет к финалу, к полной развернутости [7]. В центральной части своего лекционного курса о Канте Мамардашвили говорит, что «эстетическое заложено у Канта в самое начало, в саму сердцевину определения формы» (КВ. С. 127–128). Таким образом, он понимает эстетическое как возможность бесконечного числа актов синтеза чувственной реальности посредством формы. Другими словами, акт познания есть fans vivus, который постоянно находит возможность объединения чувственной реальности посредством формы, объединения, которое, как мы говорили, никогда не бывает однозначным и данным раз и навсегда. И в этой неисчерпаемой возможности заложен эстетический смысл акта познания. В этом отношении объект является не чем-то вне нас, но тем, что неким образом «зовет» нас, побуждая взять на себя задачу, – прийти к познанию объекта как такового. Процесс познания оказывается, таким образом, индивидуальным, личным и дискретным актом «гениальности», направленным на постижение объекта, призывающего к расшифровке себя. Познание – это задача.
Влияние Арто
В лекционном курсе о Прусте Мамардашвили использует понятие, заимствованное им из теории театра Арто, чтобы описать свое отношение к этой задаче. Под влиянием «театра жестокости» Арто он предлагает своего рода введение в «философию жестокости» – в смысле вовлечения в процесс познания, который достигает пределов наших сил и способностей. Он говорит:
«(Если Арто мечтал о театре жестокости, то вот и я, вслед за Прустом, предлагаю философию жестокости. В смысле: жестко мыслить.) Так вот, мы ударяемся в такого рода отношения, чтобы закрыть перед самими собой страх, который мы не можем не испытывать. Какой страх?
Что это за страх – angoisse? Одиночество. Ощущение того, что есть что-то, чего никто не может сделать за тебя, во-первых, и, во-вторых, то, что ты должен сделать, очень хрупко. Для этого нет никакого само собой налаженного механизма, на который ты мог бы опереться. И это, конечно, страшно, потому что может не получиться» (ПТП. С. 179).
Мыслить – это нечто временное, преходящее, что может и не случиться. В эссе «Метафизика Арто» исследование Мамардашвили кружит вокруг идеи о том, что мысль невозможна, поскольку акт мышления никогда не завершен раз и навсегда. Всякий раз мы должны возвращаться к самому «попаданию в условия мысли».
Проблема заключается в том, что мы не можем просто решить поместить себя в эти условия посредством акта доброй воли. Нам нужны инструменты, или некие «машины». Далее Мамардашвили утверждает:
«Мы установили следующее: что мы что-то понимаем, видим не путем переноса в нашу голову содержания значений письменного текста или устной речи, а лишь при условии, что в нас произошел какой-то новый сознательный опыт, опыт сознания как такового, в котором родилось что-то, что есть, что было, что уже сказано. Но что должно, повторяю, еще родиться, чтобы быть понятым» (Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1992; далее – КЯПФ92. Метафизика Арто. С. 379–380).
Конечно, театр был для Арто инструментом, гарантирующим, что мы вновь оказываемся в условиях такой работы. Театр является «машиной» по созданию условий появления смысла вещей. Мамардашвили, говоря об Арто, замечает:
«Зачем слово, которое мы можем прочесть, нужно еще и произносить? (…) Потому что театр есть машина, физическая машина, посредством которой мы снова впадаем не в то, что мы знаем, но в то, чего знать нельзя в смысле владения. Театр восстанавливает тот смысл или то понимание, которое потенциально содержится в словах и жестах, в пространственных расположениях фигур, которые могут быть заданы заранее, но именно сейчас физически производимый эффект, уникальный только в данный момент, способен сделать так, чтобы мы снова впали в то, что как будто бы знали» (КЯПФ92. Метафизика Арто. С. 379).
Как для театра, так и в отношении процесса познания требуется создание определенных условий, чтобы проявился смысл вещей. Необходимость mise en scene как постоянного воспроизведения условий появления смысла – это и есть то, что мы назвали эстетическим смыслом акта познания, своего рода театральность, включенная в процесс познания.
Индивидуализация главных черт эстетики мышления: театральность процесса познания и его этический характер
Правда, любая ссылка на эстетический смысл акта познания вызывает вопрос о значении этой «эстетики мышления» [8] в работе Мамардашвили. Идет ли здесь речь об эстетике в ее обычном понимании, как философии прекрасного и философии искусства? Или скорее имеется в виду эстетика как чистая теория aisthesis‘а, а именно, теория чувственного познания? Или же эстетика здесь не означает ни то, ни другое, но нечто совсем иное?
Принимая во внимание важность влияния теории театра Арто в определении процесса познания как своего рода задачи, мы можем переформулировать вопрос следующим образом: какого рода эстетический смысл присущ акту познания, определяемому в качестве задачи? Да и можем ли мы говорить о некоего рода эстетической задаче?
В этом смысле эстетика мышления соотносится, прежде всего, с театральной эстетикой Арто: Мамардашвили делает акцент на самом акте, событии мысли, на персональности этого акта, который должен быть выполнен индивидуально, который выявляет смысл, – в то время как у Арто на переднем плане его аргументации тезис об участии актеров и аудитории в праздновании жестокости, которая является жизнью, противопоставленной бесконечному фону своих смыслов. Более того, театральное событие, в понимании Арто, и событие акта познания, в понимании Мамардашвили, являются неповторимыми. И для театрального события, и для события познания – повторение синонимично ложности, не вовлеченности в акт, выявляющий смыслы. Наконец, как подчеркивает Деррида в «La theatre et son double» [9], театр жестокости есть театр без истории. Используя язык Мамардашвили, мы сказали бы, что театр жестокости создает «опространствленное» время, в котором смысл не обретается шаг за шагом, последовательно, но дается в качестве символа.
Теперь мы можем ответить на вопрос, который вставал перед нами, когда мы говорили, что у Мамардашвили речь не идет об эстетике как философии искусства. И это не только потому, что он развивает данную тему в рамках своего лекционного курса о Канте, где ни искусство как таковое, ни артистическое высказывание не являются предметом обсуждения, – но также ввиду того, что тот род эстетики, который Мамардашвили описывает в данном контексте, не покоится на утверждении, согласно которому объективность не имеет основы, как если бы существовали не факты, но только интерпретации. Мамардашвили не утверждает, что артистическое высказывание должно иметь статус привилегированного инструмента познания, как и не приписывает искусству привилегированную роль в поисках истины. Но ведь эта эстетика мышления не есть просто чистая теория чувственного познания. Акт познания, согласно определению, даваемому Мамардашвили, имеет некоторые черты эстетического высказывания, коль скоро он предполагает индивидуализацию реальности и имеет символическую природу; но это и своеобразная задача, которую мы должны взять на себя, чтобы понять, что же такое объект, который «манит» нас.
Эстетическое измерение акта познания, необходимое условие mise en scene смысла, относится к эстетике, имеющей этический характер. Познание – это задача, которую мы должны прочувствовать «на собственной шкуре»; «никто» не может сделать это «от лица другого». Оно основано на личном риске: понимание объекта может не случиться, а раздутая система отсылок, «звучные подмостки» смысла – могут лишь привести к коллапсу. Этический характер театральности, заключенный в процессе познания, базируется на двух различных основах: первая связана с феноменологическим допущением, основывающимся на теории Мамардашвили, согласно которому познание есть событие, которое всегда персонально и никогда не выполняется раз и навсегда, – в то время как вторая связана с особым отношением между познанием и ответственностью в культурном и историческом контексте, в котором оформлялась мысль Мамардашвили.
Действительно, этическое измерение исполнения смысла основывается на феноменологической концепции познания как события мира. Каждый акт познания является «моим» актом познания, который задействует структуры понимания мира, который всегда есть «мой» мир. Это обстоятельство является теоретической основой утверждения Мамардашвили о том, что невозможна передача познания от одной личности к другой. Чтобы что-то понимать, например текст, читателем должно быть создано реальное событие восстановления условий текстового смысла. Повторяясь, можно сказать, что познание, которое не оживлено, не исполнено вновь в качестве личного и оригинального пути, так, как будто это происходит в первый раз, является стереотипным, мертвым.
Центральная проблема этой особой эстетики акта познания связана не с формой и определением понятия «прекрасного», но скорее со смыслом понятия «жизни». А это предполагает узнавание живой, оригинальной, нестереотипной мысли среди мертвой и неоригинальной.
Но почему в аргументации Мамардашвили данное определение принимает форму задачи, за исполнение которой я ответственен (я даже обязан ее исполнять), должен полностью в нее вовлекаться на свой страх и риск? Мы говорили, что личная вовлеченность в процесс познания есть единственный способ достичь истины; другими словами, нет другого пути понять смысл чего-либо, как «исполнить» его для себя. Но это не просто теоретический аргумент. В историческом и культурном контексте, в котором Мамардашвили жил и преподавал, характеристика всякой неличностной мысли как мертвой была твердым актом отделения от «безответственности» официальной советской философии с ее особым «советским новоречьем» [10], составленным из скрытого цитирования «классиков» и подхода к фундаментальным философским текстам при посредстве специального руководства. К тому же, его позиция оказывалась сопряженной с решительной атакой на монолитную систему, которая стремилась оставить за собой право на окончательное слово о законах истории и реальности; таким прежде всего и был марксизм-ленинизм.
Выводы
Ответственность за живую мысль является file rouge, красной нитью, прокладывающей свой путь через опоры духовного дома Мамардашвили. Со времени случайного открытия «французского дара» жить Мамардашвили ориентировал свое философское развитие с помощью внутреннего исходного вопроса, касающегося возможности живого опыта любого акта мысли, возможности «на собственных плечах нести тяжесть риска и ответственности».
Хотя эта встреча с французской культурой была биографическим совпадением в его интеллектуальной жизни, мы тем не менее можем сказать, что она представляет собой основополагающую характеристику развития его мысли. Это дает ключ также и к прочтению самых различных авторов, к которым Мамардашвили обращается в своих текстах. Действительно, в своем прочтении он, как мы уже замечали, искал не аккумуляцию мыслей, но внутренний опыт «быть живым», опыт, записанный в словах этих авторов, который читатель должен воссоздать как свой собственный внутренний опыт посредством исполнения эстетического акта, активирующего структуры смысла.
Центральное положение идеи Мамардашвили относительно живой мысли является также одной из причин его интереса к искусству как материалу философского обсуждения. Даже если искусство не является привилегированным инструментом доступа к истине, произведение искусства все же представляет собою чувственное выражение того первоначального, личностного акта гениальности, который приводит в движение условия, необходимые для появления смысла.
Если же говорить о теории познания Мамардашвили, то мы можем подвести итог его размышлений определением их как «эстетического акта живого познания», где термины «эстетика» и «живой» гармонично сочетаются друг с другом. Мы могли бы также сказать, что аргумент в пользу эстетического смысла акта познания – это своего рода «вариация» на исходную мамардашвилиевскую тему живого элемента, присутствующего во всяком акте мысли вообще. Речь идет о своего рода эстетической ответственности или эстетической задаче поддерживать познание как живой процесс, несмотря на повсеместный риск впасть в мертвые стереотипы.
Чтение и интерпретация живой сути философии излюбленных мыслителей и было для Мамардашвили внутренним актом интеллектуальной ответственности, реализуемым им в своих опытах. Вступая во взаимодействие с мыслителями, являющимися опорами европейской философии, без оглядки на обстоятельства времени и места, он сумел извлечь на свет красную нить, их связывающую. На всем протяжении пути развития собственной мысли для него продолжала звучать одна и та же тема: «страсть», которая «случайно» овладела им во время чтения в ранние годы французских авторов, стала критическим голосом в поддержку независимой мысли, звучавшим в маргинальном пространстве советской философии.
Перевод с английского выполнен А. Г. Жаворонковым
- Мысль под запретом: Беседы с А.Эпельбуэн/ Пер. с франц.// Вопросы философии. 1992. №4. С. 72, 75.↑
- Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте. С. 16.↑
- Мамардашвили М.К. Необходимость себя. Введение в философию. М.: Лабиринт. 1996. С.10 (Оригинальная рукопись вступления к «Введению в философию» недоступна для сравнения с НС. С. 10. Однако Мамардашвили обращается к схожей концепции в работе «Как я понимаю философию» (М.: Прогресс, 1992). С. 14, 388.)↑
- «Введение в философию». Рукопись. С. 3. Я выражаю благодарность Тапани Лайне и Алене Мамардашвили за эту ссылку.↑
- Новый круг 1 (1993). С. 71.↑
- Ibid. С. 96.↑
- Одним из наиболее оригинальных аспектов мамардашвилиевского стиля является идентификация в философских текстах сквозных узловых тем, извлекаемых им посредством «горизонтального развертывания» аргумента, как о том свидетельствует разъяснение в incipit его курса о Канте (см.: КВ. С. 33).↑
- Запись лекций, прочитанных в Тбилиси в 1986–1987 гг., была опубликована в 2000 г в книге «Эстетика мышления». Эта серия лекций концентрируется вокруг темы эстетического измерения мышления в целом. Однако я решила не делать отсылок к данной публикации по причине некоторых расхождений записи с оригиналом.↑
- Artaud, A. Le Theatre et son Double. Paris: Gallimard, 1964.↑
- Мамардашвили М.К. Работы. Кн. ХIX. М. Логос, 2004. С.139.↑