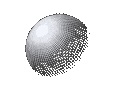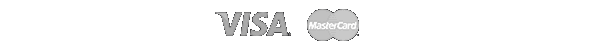В стране Мамардашвили
© Анатолий Ахутин, 1995
| Философ является гражданином неизвестной страны —М. Мамардашвили |
Благодаря немалым трудам сестры, друзей и почитателей Мераба Мамардашвили, мы располагаем теперь хорошо отредактированным текстом его лекций о М. Прусте[1]. Книга эта прямее и глубже других публикаций философа вводит читателя в ту местность, которая отныне и навсегда будет носить его имя. Перед нами путь, ведущий прежде всего в особое имение мысли, в собственные владения M. М. Там обитают его собственные Данте, Декарт, Пруст, его собственные вера, любовь, смерть…
(Не хотите ли Вы сказать: его собственная истина!? Не хотите ли Вы сказать, что сколько голов, столько и умов, столько и миров, столько и истин!?.. – Ах, если бы! [2])
«Лекции», кажется, ставят все на место. Это M. М. как он есть и при этом, осмелюсь сказать, весь M. М. Перед нами – может быть, впервые – не косвенная, а прямая речь, не след намерений, а риск свободного полета. Здесь M. М. сказался, сказался вместе со всем, что ему было сказать. Отныне фразы, что-де слушать M. М. было одно удовольствие, но потом нельзя было ничего вразумительного вспомнить, или что сегодня нам не хватает интонации, мимики, тела M. М., – характеризуют только слушателей и читателей, но не автора. Откровенная простота «Лекций» более, чем эзотерический язык «Символа и сознания», затрудняет наше ленивое желание отделаться от мысли – растворить ее в обаянии личности, заговорить анекдотами из жизни, цитациями изречений, интимными воспоминаниями, «в сладости которых мы с таким удовольствием нежимся», загородить желчным образом светско-советского «мыслителя» или благонамеренным образом всечеловеческого «мудреца». «Мыслитель», «мудрец», «эпикуреец», «грузин-женолюб», «учитель жизни», «экзистенциалист», «эстетик» – ягоды одного поля, лучше сказать, рубрики одной амбарной книги. Мы сразу же норовим объяснить («от-объяснить») «феномен Мамардашвили», определить его в некой абсолютной системе координат, редуцировать мир его собственного имени к набору нарицательных свойств и качеств (типологических, идеологических, психологических, чуть ли не телесных), словом, поставить его на место.
Первое, что одних раздражает и отталкивает в речи M. М., других же, напротив, захватывает и увлекает, – сама ее стилистика. Язык M. М. лишен понятий в строгом смысле слова. Пожалуй, M. М. даже сознательно их избегает. Его речь держится своими оборотами и словечками, символическими примерами-притчами, метафорами. Порой кажется, что и классические понятия (cogito, «априори», «редукция») – лишь метафоры в его устах, точно так же, как евангельские сюжеты, стихи, физические теории. Понятно, что M. M хочет пробиться сквозь рутину равнодушной учености к живому смыслу, но при этом часто жертвует строгостью и точностью. (А критики нынче ребята крутые, иной шутит-шутит да и обронит эдак через плечо: «Его отношение к слову – неточное, неряшливое, приблизительное – мне претит. Написанное им самим читать невозможно». И. Шевелев. «Независимая газета». 20.XII.95).
Трезвый аналитический взгляд академического философа, знатока Декарта или Канта, тем более взгляд историка философии (равно и знатока Данте или Пруста) легко развеет туман и вольность его интерпретаций. Специалисты будут, несомненно, правы. Рискнув быть в мысли всего лишь самим собой и думать не терминами, не готовыми понятиями, а пониманиями, каждый раз как бы заново пробивающимися на свет из собственной темноты и вновь тонущими в ней, M. М. дает к этому повод. Он своевольно переносит тексты, на которые опирается, с их насиженных мест к себе, в свой мир и наполняет их местным смыслом. Критика поэтому будет правильной, но, может быть, не всегда уместной, потому что M. М. пользуется именами, словами, понятиями, ставшими для нас знакомыми знаками, в каком-то незнакомом смысле. К нему-то и стоит, по-моему, прислушаться. Можно ведь не только заниматься «проблемой понимания», но и попробовать понимать.
Статья моя не рецензия, не апология и не критика. Для начала стоит попытаться войти в страну, в странный мир M. М., осмотреться, освоиться в нем, наметить его топографию, уяснить кое-какие законы, царящие в нем.
(Но что нам за дело до собственного мира некоего Мамардашвили? До его личных домыслов? Что нам за дело до его фантазий о Прусте, читанных в 1982 году двенадцати тбилисским студиозусам? Почему мы должны разбираться в этих расплывчатых, чтобы не сказать лукавых, речах, сочинявшихся в комфортном подполье? Да и вообще, что доброго может выйти из нашего «желтого дома»? Неужели после А. Зиновьева и Д. Галковского все еще не произошло «окончательного решения» этого вопроса и можно еще на что-то надеяться? – Нет, конечно. «Оставь надежду всяк сюда входящий!»)
Понимание начинается с элементарного внимания. Объяснение атопично и наступательно, оно знает наперед, в каком свете что бы то ни было может стать ясным. Понимание, напротив, уступительно, оно с самого начала допускает возможный источник объясняющего света в самом понимаемом. Понимание начинается с того, что допускает понимаемому быть в полноте его собственного, необъяснимого, непонятного, авторского бытия и смысла, в его собственной возможной всеобщности. Объясняющий занимает божественную позицию, не важно, выступает он как теолог, метафизик, историк, этик, идеолог, психолог или какой-нибудь другой «лог» или «вед» [3]. Понимающий же ставит себя на одну доску с понимаемым, это разговор «на Вы» или «на ты», собеседование [4]. (Да Вы никак диалогист! Но к вашему диалогизму – хоть буберовскому, хоть бахтинскому, хоть библеровскому – M. М. относился очень скептически. Что бы Вы ни говорили, он все-таки ближе всего к феноменологии. – Что ж, согласен.) Словом, говоря здесь о М.М., я обращаюсь прежде всего к нему, хотя разговор этот теперь, увы, возможен лишь как заочный. Наша забота – услышать, наша забота и быть услышанными. Значительно хуже, что до разговора здесь дело не дойдет по моей вине. Для начала я хочу лишь выслушать (прочитать) и воспроизвести понятое своими словами: так ли я Вас понял, M. М.? Принимаете ли Вы такое понимание? Ведь прежде чем отвечать, надо как-то убедиться, что мои возможные вопросы и возражения идут по адресу. Иными словами, я тут хочу по возможности полнее войти в положение M. М., как бы встать на его сторону и смириться с неизбежной в таком случае двусмысленностью собственного голоса.
Словом, мне хочется привлечь внимание к тому в «Лекциях», что, кажется, нуждается в нашем понимании. И еще мне кажется, что в понимании этом мы сами нуждаемся больше, чем автор.
1. Ориентация на местности
1.1. Индивидуация и событие
«Лекции» позволяют оглянуться на все предшествующие работы M. М. и заметить их внутреннюю связность, сосредоточенность на каком-то одном постижении, одном «видении». Двигаясь как бы наощупь, на собственный страх и риск, подбирая не всегда подходящие слова и метафоры, отодвигая в сторону их затверженные значения, рассчитывая на счастливую находку больше, чем на заранее заготовленные припасы, M. М. описывал круги и прокладывал тропки в окрестностях единственного умного места, откуда черпал свои афоризмы и парадоксы. Он не излагает, не конструирует, не эссействует, – идет по следу, «помечает». Его речь развертывается не в предложном, а в творительном падеже.
Умное место (M. М. называет его когитальным), топологические особенности которого пытался наметить M. М., не менее странно, чем Зазеркалье Л. Кэрролла. Попасть туда можно только случаем; оно полно богов (богинь) или пафосов; выйти наружу можно, только обернувшись и глубже зарываясь в шахту собственной души; себя находишь, лишь «вкладываясь» в вещи; вещи эти, однако, не обладают свойствами, а получают их вместе со мной; для меня же мое собственное Я – мнящее, психологическое, обладающее качествами и способностями – не более, чем вещь среди вещей… Это место умное (когитальное, ноуменальное). Бродя по миру или копаясь в себе (в том же мире), туда не попасть. Но сама «умность» имеет место в мире, она топологична (определяет особые фигуры внутренней связности мира), фактична, событийна. В это место совсем уж не попасть, если мы удвоим наш невразумительный мир, добавим, пристроим к миру еще один, расположенный где-то по ту сторону, – пристроим с надеждой, что, если здесь нам не хватило ума для постижения, то виноват в этом не ум, а мир, слишком-де чувственный, и там-то уж, в мире умопостижимом, этого ума хватит.
Осмотримся же повнимательней в этой местности. И прежде всего спросим, как это может быть, что умное место, место, стало быть, каких-то возможных общих постижений, понятий, истин, оказывается вместе с тем собственным местом M. М., так сказать, его частной собственностью. Что за привилегия такая? В самом деле, что нам до M. М., пусть ему лично и удалось сказаться.
Разумеется, никому, кроме разве что друзей, не было бы до него дела, если бы не что-то общезначимое, чему удалось сказаться вместе с ним, его авторским словом, его собственным языком, стилем. В этом и состоит парадокс, на который первым делом обращает наше внимание M. М.: общезначимое, всеобщее, сверхличное, истинное, как хотите, не может сказаться иначе, чем сказываясь каждый раз как бы впервые, каждый раз снова находя свой язык, свою манеру сказывания, то есть – лично, персонально, индивидуально, авторски, собственноименно.
«…Есть категория вещей, которые одноличны. Она объединяет такие вещи, которые могут быть или не быть только собственной персоной» (с. 36).
Такие вещи запрашивают каждого из нас в отдельности, персонально, потому что нуждаются в нашем участии, понимании, даже в любви, а никто не может всерьез думать, понимать, переживать, любить… не персонально. Законы этого места подобны Закону из притчи Ф. Кафки «У врат Закона»: прождав весь век в надежде на свое смирение перед всеобщим, когда уже поздно, я узнаю, что врата эти ждали только меня, чтобы открыться.
Из многочисленных вариаций этой темы в тексте «Лекций» приведу один обширный фрагмент, касающийся собственно философии. Фрагмент этот еще пригодится нам в дальнейшем и по другому поводу.
«Философский элемент неотъемлем от сознательной жизни – сознательная жизнь поистине не может строиться без философского элемента. Если его нет, то это не сознательная жизнь, а жизнь в мире имитаций. Жизнь в том естественном мире, в котором даже бессмертие есть просто проекция и удвоение моего теперешнего и мною не понятого состояния. Философскому элементу, неотъемлемому от нашей сознательной жизни, свойственно одно: он целиком замкнут на индивидуальное сознание и только к этому предмету имеет отношение. Сама философия – это все только личное. Но «только личное» – странный предмет. Он одновременно универсальный, общий. Умирают ведь все, но в то же время смерть есть самое личное событие. И только личное. В том смысле, что вместо тебя никто не умирает, умираешь только ты. И понимание – тоже совершенно личная и только личная вещь. Понять можешь только ты сам, за тебя понимать никто не может. Понимание всегда отмечено знаком индивидуального состояния. Если его нет в качестве индивидуального, то нет и понимания. Вы не можете понимать вместо меня, я – вместо вас. (…) Философствовать можно только о том, что обладает свойством личного» (с. 68—69).
Иными (моими) словами, – добраться «до оснований, до корней, до сердцевины» вещей (сверхличное) можно лишь собственным, единоличным путем, а это значит – лишь одновременно – и впервые – добираясь до самого себя, до собственных оснований и корней. Мы, можно сказать, коренимся друг в друге, и движение наше взаимно: «то» и «кто» способны выйти из собственной тьмы лишь в событии встречи. Причем, и до собственной тьмы надо еще добраться, выбираясь из всеобще-ничейных подразумеваний само собой разумеющегося или из множества всегда уже готовых к услугам схем объяснения.
«…K истине мы приходим только из своей тьмы. Тьма – только наша (…) Чтобы была мысль, должна быть темнота, которая заставляет мыслить» (с. 69).
Или – все начинается там, где сходятся мир и я – один на один, врукопашную, всё и весь, целиком, рискуя всем своим бытием. Мир как индивид вызывает, призывает (как на войну) индивида, вырывая его из натуральных (и социальных) связей, сцеплений. Эта встреча предполагает редукцию самого себя, рассредоточенного в мире, и мира как среды, как совокупности средств и причин, как собрания вещей и людей, обладающих определенными качествами, среди которых мы функционируем. Ведь сам мир есть со-средо-точивающая конкретность, а не усредняющая абстракция, и требует он соответствующей ему предельной индивидуации. Такая редукция, сосредоточивающая распространенный (рассеянный) в пространстве и времени мир в некую нулевую точку, есть условие возможности как философской мысли во всей ее изначальности и онто-логичности (сосредоточенности на мысли, сосредоточенной на самом бытии), так и экзистенциальной индивидуации.
Впрочем, здесь, по-моему, назревают два внутренне связанных вопроса. Первый: если универсальное предполагает личную индивидуацию, персональный корень, то парадоксальность этого события усугубляется тем, что оно допускает и даже требует столь же всеобщее, универсальное раз-личие индивидуаций. Второй: редукция к нулю, к ничто (и никто) может быть лишь предельной абстракцией, если она не понята одновременно как со-средо-точение исторического мира (культуры), некоторым образом вмещающая в себя всю эту «среду» с ее собственным строением, предметным языком, образом мысли, etc. Точка сосредоточения содержит в себе свой мир, она поэтому со-держательна. Нуль редукции, если он не содержит таких точечных возможностей, просто пуст [5].
Вернемся, однако, к тексту.
«Философский элемент» – это экзистенциальный тонус сознательной жизни, напряжение, создаваемое двумя полюсами. Назовем их онто-логическим (мне тут важно подчеркнуть «логический») и лирическим. Да, «философский элемент» целиком замкнут на индивидуальное сознание, но, следует добавить, и индивидуальное сознание впервые приходит в себя, лишь целиком замыкаясь на «философский элемент», в горизонте мышления, в интенции на бытие. «Элемент» останется элементарным, свернутым в неопределенные интуиции и предчувствия, пока не развернется в философию, в философский мир, пока мой мир, оставаясь моим, не до(по)кажется в качестве всеобщего. Пока жизнь сознания, иными словами, не исполнится жизнью мышления. Но и мир, бытие останутся абстрактными теориями, пока не до(по)кажут себя на деле, в опыте, в экзистенциалах личного события [6].
Я нарочно использовал здесь термины феноменологии («редукция», «горизонт», «интенция»), чтобы наметить тот оборот современной философской мысли, которому – это кажется очевидным – ближе всего собственная мысль M. М. Если говорить еще точнее, то мы тут в средоточии одной из самых мучительных для феноменологии – и не только для нее – проблем – проблемы индивидуации. Та же самая философская память, что заставила Гуссерля в нужном месте вспомнить лейбницевскую «монаду» [7] наводит на это понятие и M. М. Кроме того, мы легко распознаем в «Лекциях» не только экзистенциалистские мотивы феноменологии, но и более определенные понятия: помимо упомянутых, – «переживание», «феномен», «феноменальная материя», «фактичность». Наконец, фундаментальнейшая для феноменологии тема – тема времени – как раз и есть то, что позволяет M. М. без особых натяжек вовлечь в свои размышления роман М. Пруста. Дело тут, разумеется, не только во вкусовых пристрастиях.
Можно, конечно, зачислить M. М. в феноменологи, если только понимать, что для него феноменология не дисциплина, не доктрина, в разработке которой он участвует, а своеобразный орган понимания, который – как и всякий орган понимания – начинает работать, лишь будучи целиком персонализирован, даже приватизирован (если попробовать обобщить, что равно усреднению, – феноменологии М. Мерло-Понти, М. Шелера и, скажем, М. Хайдеггера, результат будет столь же тощим, что и общий им инициал «M»). M. М. не говорит о феноменологии и не работает в ней. Он осваивает ее установку, чтобы видеть, понимать и каждый раз неким изначальным усилием воссоздавать ее по-своему. Это вариация, изобретенная самим M. М., потому что, согласимся с ним, – понять возможно только изобретая, обретая из себя то, чего в нас не было (см. с. 327 и др.[8]).
Так вот, если сосредоточение на жизни сознания – общая черта, характеризующая феноменологическое уморасположение (а может быть, и симптоматическая доминанта философии XX века вообще), то M. М., для которого тоже, как мы знаем, «философия – это сознание вслух», сосредоточен преимущественно на том полюсе сознания, который я назвал лирическим. Обращение к творчеству художника, и прежде всего – к тому поэтическому сознанию вслух, которое воплощено в романе (лучше сказать – поэме) М. Пруста, совершенно оправдано. Тем более, что и сам роман не биографичен, а автографичен – роман о романе, произведение о произведении – и авторографичен – описывает не «жизнь и мнения» Марселя Пруста, а создание автора, воссоздающего жизнь, в том числе и себя – Марселя – в ней.
Но продолжим нашу ориентацию на местности самого M. М.
Вещи, говорит M. М., пользуясь образами Данте, деревья, местности, домашняя утварь жалобно взывают ко мне, чтобы я вызволил их души, которые суть осколки моей собственной растерянной по ним души. «Физические» и «психические» вещи нуждаются друг в друге как части какого-то «третьего», незримого, мета-физического и мета-психического существа, которым они с-мысливаются в смысл и сбываются в бытие. Так, вместо метафизического удвоения мира на поту- и посюсторонний M. М. различает мир смыслов-событий, происшествий вос-созидающего восприятия, с одной стороны, – и – (псевдонатуральный) мир вещей со свойствами и людей с их качествами и «способностями», мир распавшихся и забытых событий [9], с другой. Иначе говоря, своего рода метафизическая «потусторонность» сохраняется и в этом феноменологически преобразованном виде.
Например: слова приобретают свойство «поэтичности», а человек, соответственно, обретает «чувства», поскольку случаются поэтические события (поэтические «положения вещей и слов») – поэмы, – и эти события, остывая и распадаясь в обиходе, порождают мнимые поэтические слова (слова, будто бы сами по себе обладающие поэтическим качеством), мнимые поэтические ситуации и, соответственно, не менее мнимые «чувства». Мир смыслов-событий загораживается замещающими его декорациями, ходячими мнениями, инертными страстями, самозначащими словами, привычно указующими ввысь или вглубь, но легко всеми распознаваемыми по двум-трем знакам [10]. «Это просто избавляющий нас от труда мысли знак» (с. 122). Нечто невыразимо-внутреннее, душевное (или за-душевное) потому и невыразимо, что, оставаясь неведомым самому себе, просто встроено в систему условных знаков, которыми все умеют пользоваться и с удовольствием довольствуются. Мир сентиментальных привидений, патетических симуляций и благих (или «крутых») намерений безвыходно замкнут в себе хорошо знакомыми знаками (эмоциональные гримасы, эстетические восторги, мат) и ритуалами (например, ритуал ухаживания, разработанный, кстати сказать, в мире гусей тоньше и изящнее, чем иной раз в мире людей), он насквозь семиотичен, и держится не первичными словами, а условностями, вторичными знаками-шифрами, вторичными моделирующими системами.
Можно сказать поэтому, что не стихи пишутся от избытка чувств, а чувства чувствуются от недостатка поэтического внимания.
Или еще: случается временами такое сверхъестественное событие, как философская мысль (вообще-то говоря, можно было бы и без прилагательного), а потом – из этого пламени – выпадают естественный (будто бы прямо чувствами воспринимаемый) мир и люди, обладающие этими самыми чувствами и сверх того еще естественным разумом (так и говорится – «естественный свет разума»). Поскольку, однако, чувствуется также, что чего-то тут не хватает, люди добавляют к рациональным расчетам расчет на иррациональное, к естественным чувствам – чувство сверхчувственного, к бездушному уму – безумную душу, к бестелесному сознанию – тело бессознательного. Добавляют и устраивают между ними склоки. «Натуральные» люди мнят себя индивидами-от-природы (или от Бога, мыслимого тоже натурально, только «сверх») и заботятся либо о том, как бы сохранить и утвердить свою самомнительную индивидуальность, либо наоборот, как бы преодолеть свой субъективизм и индивидуализм, чтобы зажить, наконец, в согласии друг с другом, с миром, в котором они сообща обитают, и даже с Богом.
Впрочем, оговорюсь. Такое резкое противопоставление события и быта, – как и всякое победоносное противопоставление «высокого» и «низкого», «хорошего» и «плохого», «подлинного» и «неподлинного» – конечно, донельзя упрощает и искажает ситуацию, а если и задевает ее, то только там, где она сама норовит донельзя упроститься. Следовало бы, например, рассмотреть прежде всего, что за метафизическое событие «остывает» в нашем быту (ведь наши типичные бытовые очевидности и повадки нетипичны, скажем, для других эпох – мифология обыденной жизни людей XX века, живущих в Европе, другая), с чем именно, с каким разумом мы свыклись настолько, что он мнится сам собой разумеющимся, откуда льется его «естественный» свет, в котором мы все видим, переживаем, объясняем себе, находим необъяснимым, иррациональным, считаем одно достойным веры, а другое недостойным даже существования, акты какого сознания кажутся нам фактами естественной психики… Тогда только сможем мы уразуметь и содержательный смысл того нового, назревающего события, которым чревата современность и отголоски которого сказываются, в частности, в феноменологии, иными словами – уразуметь собственно философский смысл феноменологии.
Между тем, для M. М. метафизическое событие (то самое умное место) – по самой сути своей единственно (тоже в своем роде естественно). Это – точка, топологический центр, в котором все – мистики, философы, поэты, – сколь бы ни были они разъединены друге другом пространством, временем, культурой, конфессией, — если уж попали в это место (источник их откровений и творений), то пребывают там все вместе и суть одно (см. ниже раздел «Символ»).
Но все же, что такое эти всеобще-индивидуирующие события («когитальные акты», «рукопашные схватки»)? Как они возможны? Как происходят, случаются? Как мое мнение, спрашивает философ-логик, может стать идеей, самой по себе сущей мыслью? M. М., предположил я, захвачен лирическим полюсом: как начинают жить мыслью, стихом, честью, любовью? Что при этом происходит с человеком, чего они требует от человека? Здесь, в этой точке встречается M. М. со своими любимыми философами и поэтами: Платоном, Декартом, Кантом, Прустом, в этой точке их слышит и понимает…
Но все же: мыслью? – или стихом? – или любовью? – или верой? Почему философ – в философском произведении – говорит о писателе? Да еще замечает: «Я думаю не о Прусте, но Прустом думаю о чем-то» (с. 313), – то есть делает роман Пруста не столько объектом исследования, сколько «органом понимания». Конечно, замечали мы, сочинение М. Пруста особое, не просто жизнеописание, а и анализ самого писательства, роман не о художнике в жизни, а о жизни в художнике. Тем не менее – это художественное произведение, а не философский трактат. Дело ли философа, забыв свои «энтелехии» и «трансцендентальные апперцепции», рассматривать, как ласка моего взгляда возрождает заново окраску щек Альбертины? Вопрос можно поставить еще более острым ребром. Почему M. М. – с его топологическим чутьем, с пафосом фактичности, событийности, персональности – столь беззаботно – и атопично – перемешается по временам и странам, из философии в науку, в искусство, в мистику, – и нет, кажется, для него границ. Восток, Платон, Евангелие, Данте, Паскаль, Декарт, физика, право…? И если даже все это рассматривается в том понимании, что всякий раз здесь приходится начинать снова, то это снова-то-же-самое.
Гуссерль, к примеру, называя феноменологию «картезианством двадцатого века», «нео-картезианством», вместе с тем ясно понимал: феноменологическое переосмысление картезианских мотивов столь радикально, что «вынуждает отвергнуть почти все известное учение картезианской философии» [11]. A M. М. говорит:
«Индивидуация – это ничем другим не заместимое мое существование в акте восприятия, что и обозначено формулой Декарта: cogito ergo sum» (с. 92).
Но не это обозначено формулой Декарта. Как раз картезианский разум (разум методического познания) освещает мир таким образом, что его физические, тем более метафизические – сущностные – законы, кажется, не предусматривают значимости единичного существования ни вещей, ни каждого из нас в отдельности. Картезианский Субъект не «упаковывается» в персональные, единоличные формы.
Озадачившись на будущее такими вопросами, попробуем пока двумя-тремя чертами обрисовать уже наметившиеся контуры искомого места.
1. Мир свойств и качеств, мир-среда, среди привычных связей и знакомых знаков которого обычно существует человек, и сам человек, впутанный в эти связи, подвергаются здесь редукции.
2. Редукция, разумеется, означает не устранение (тут был бы скорее уместен известный термин «остранение»), а восстановление, восполнение мира и человека до самих себя. Мир не содержит в себе это место среди других мест, а вмещается в него, он есть мир как мир этого места. (Следует, однако, иметь в виду отмеченную выше двойственность в понимании этой редукции).
3. Такое со-средо-точение мира в целом, со всеми временами и местами в это место, в эту нулевую точку и в это мгновение – hic-nunc-sic – тут-теперь-так – («как только я прикоснулся к первой пуговице моих ботинок») имеет место как событие, происшествие (вдруг), которое совершается одновременно (мы еще толком не знаем, как) и с человеком, совершая, собирая его в неделимое – индивидное – присутствие теперь-тут-так-целиком. В этом случае осуществляется полнота соучастия, соприсутствия.
«…Реально то, что откроется полному присутствию, – лишь то, что откроется полному присутствию, обладает признаком реальности» (с. 104).
4. Исполнение мира M. М. называет когитальным актом или когитальным состоянием сознания, и только в нем возможны первичные, оригинальные (originar в терминологии Гуссерля), настоящие – чувство, восприятие, переживание (волнение), понимание. Только в нем они получают смысл восприятия, понимания etc. настоящего, реального, «самих вещей». Если это место присутствия не исполняется лично мною, оно наполняется иллюзиями, силами инерции и замещается вещами-знаками.
Теперь важно отметить еще один момент. Место, точка, способные вместить в себя целое, все, есть точка начала. Одновременно и нечто само-начальное (только тогда это все, целое), и нечто начинающее-ся, само начинание, граница с небытием, возможность. Начинание по самому своему смыслу не может ниоткуда следовать и ни на чем держаться. В этом и состоит парадокс творения или авторства.
1.2. Начало. Герой и Автор
Вспомним: «Философский элемент», утверждает М. М., неотъемлем от сознательной жизни. В нем условие ее возможности, в этом «элементе» она коренится (вместе с корнями вещей) и этим «элементом» исполняется. Это и значит, что «философский элемент» есть начало сознательной жизни как таковой, в целом, где бы и как бы она ни осуществлялась, – собственно в жизни философской мысли, в художественном переживании (творении и восприятии), в нравственном поступке, в пафосе (патосе) любви или веры. Поэтому, в частности, язык M. М., говорящего отсюда, столь дисциплинарно неопределен и метафоричен (в чем он полностью давал себе отчет).
«…Вы, очевидно, заметили, что язык у меня то психологический, то литературный, то этический. Я уже предупреждал (см. с. 147. – А. А.), что это закон нашего разговора. Мы находимся в такой области, в которой в единых неразделимых явлениях даны одновременно и моральные проблемы, а следовательно, и моральные понятия, и эстетические проблемы, (…) [12] и, следовательно, эпистемологические понятия и метафизические проблемы» [13] (с. 177).
Мы находимся, добавлю я от себя, в области начала.
Посмотрим, что еще вроде бы заключается в допущении такого элемента.
1) В элементе, начале, средоточии, как в семени (с. 429), содержатся – в неделимом единстве – все измерения, формы, интенции возможной жизни сознания: теоретизирование и переживание, этос и эстесис, впечатлительность и воображение…[14] Поскольку же этот элемент (стихия начала) сказывается так или иначе во всех обособившихся вещах, специальных занятиях, различных пафосах, – в каждом из них как-то присутствуют и действуют все прочие. Приходится допустить, что сила, например, логического доказательства питается силой любви, пафосом красоты и «безумием» веры в той же мере, в какой и способность любить, то есть быть захваченным Другим, коренится вовсе не в самоослеплении (безнадежно замуровывающим меня в самом себе), а как раз в зорком бодрствовании сознания и в понимающей внимательности разума (со всеми его рассуждениями, сомнениями и доказательствами), способного впервые открыть горизонт возможного Другого [15]. «…Мы начинаем переживать нечто лишь после того, как что-то поняли…» (с. 143).
2) Есть вещи, которые не просто вырастают или следуют из начала, но именно начало и содержат (возвращаются к нему), держат само начало, начинание, возникновение из начала (из ничего). «Элемент» не случайно назван M. М. философским. Философия и есть мысль, которая обращается к своей возможности, к своему начинанию, и поэтому философия каждый раз начинает как бы с самого начала. Когда Гуссерль, отвергая почти все учение Декарта, называет тем не менее феноменологию картезианством XX века, он имеет в виду один-единственный, зато решающий момент: суть дела состоит в радикальном обновлении опыта декартовского начинания, в новой «медитации» над первой философией, в повторении жеста радикальной эпохэ, в переосмыслении заново всего дела философии. Того же рода – искусство, в особенности современное искусство, в том числе и роман Пруста, как произведение, рассказывающее о своем возникновении [16] (о том, как потерянное время жизни обретают в жизни художественного произведения). Таковы же, по M. М., условия нравственного поступка, который – в отличие от идеологически заданного, морального или правового – держится не «идейным содержанием» (оправданием), а формой, причем, формой не внешней (норма), а внутренней, выражаемой такими понятиями, как «благородство», «честь», «чувство собственного достоинства», «чуткость», «уважение» (кантовское Achtung), «ответственность», – то есть одновременно и общим определением и «моим личным делом» (с. 261). Поступок – изначален (см. ниже п. 4), как и все в живой, изначально целостной культуре, пока она не превратилась в культурный багаж. И если это так, то в каждой из ее сфер – философии, искусстве или… любви – мы заметим присутствие и действие других начал. Отсюда метафорическая проницаемость этих сфер, которой пользуется M. М., хотя вопрос о природе их границ, их обособленности (равно как и о природе разных культур) остается при этом не затронутым. Границы эти тонут в неопределенной «жизни сознания».
3) Если «философский элемент» (слитый в «жизни сознания» с элементом теоретическим, художественным, нравственным) неотъемлем от жизни сознания, даже образует ее начало, то есть то, чем она жива во всех проявлениях, то и самые элементарные, – казалось бы, натуральные – функции и способности коренятся в тех же началах. Лишь благодаря философскому элементу мысли мы вообще способны думать. Любая философия – это не столько результат мысли, сколько определенное самораскрытие ее – мысли – собственной сути, своего рода орган мысли, точнее говоря – ее внутренний субъект. Мы видим, слышим, говорим, воображаем, житейски переживаем благодаря некоему по природе своей художественному акту, лежащему в началах зрения, слуха, речи, языка, эмоции. Можно было бы сказать поэтому, что живопись есть самораскрытие зрения и зримости, или искусство зрения, зрение как искусство [17], а самый элементарный акт зрения как бы протоживописен (см. с. 281). Зрение в живописи, звук и слух в музыке, язык и речь в поэзии перестают быть средствами и раскрываются в своей полноте и изначальности, что значит – не только в своей феноменальной материальности (как описывает, например, музыкальный звук M. М. (с. 303), но и как индивидуализированная творящая форма, воплощающаяся в этой материи. Поскольку в поэзии, допускаем мы, язык с наибольшей полнотой раскрывает свои возможности, в ней-то и следовало бы находить истинное языкознание. В этом смысле M. М. противопоставляет лабораторию романа научной лаборатории:
«…Мы занимаемся сейчас фактически экспериментальной психологией, в отличие от наблюдательной. В действительности, экспериментальная психология (хотя ее ищут с конца XIX века), и именно в строгом смысле, давно уже существует. Она существует в произведениях искусства, в литературе…» (с. 145).
4) Разумеется, «элемент» M. М. не имеет смысла греческой «стихии» (хотя он тут, несомненно, припоминается в обликах феноменологической материи и – более всего – стихии времени). Картезианство M. М., равно как и неокартезианство феноменологии не растворяет ego-subjectum в аморфных или структурных «подлежащих». Однако ego более и не предполагается как некая субстанция. Речь идет о более радикальной субъектности: не о субъекте-начале, а о субъекте начинания, о субъекте-возможности. В этом смысле особую значимость приобретает тема персональной темноты, о которой говорилось выше, темноты, которая есть некое личное ничто, одновременно менее субъектное, ибо только «заставляет мыслить», побуждает к становлению (никакого ego sum), и более личное, таящее иные возможности становления («возможный человек» и множественность «я», – с. 356). Начало-начинание, только еще возможность начала-принципа сосредоточивает внимание на этой магической границе между ничто и бытием. Формулируя дело таким образом, я, признаться, чувствую, что подхожу к границам имения M. М., а, может быть, уже и выхожу за них. На самой же границе тема индивидуации и начинания развертывается и заостряется у M. М. в двух образах, двух обликах по сути одного персонажа; автор и герой (разумеется, не в бахтинском смысле). Автор, который описывается героическими категориями (ангажированность, риск, бесстрашие, устранение надежды, встреча со смертью etc.), и герой, понимаемый как автор собственной судьбы, ставящий себя в ее начало как ее причину или виновника и тем самым «воссоединяющийся с вещами», которые независимо от него уже существуют, но теперь он – соучастник их существования. В такой транскрипции само собой вспоминается герой греческой трагедии, в частности Эдип, принимающий вину на себя и тем самым становящийся начальником своей судьбы (с. 37 – 38, 313). M. М. вспоминает еще и Гамлета:
«Гамлет – живой, и если он что-то делает, то хочет, чтобы началом этого действия был он сам. Он может сделать то же самое (что от него требовалось «готовым миром». – А. А.), но сделает как свое» (с. 314).
5) Здесь намечается одна существенная трудность. Поскольку философия, искусство, религия, мистика, – данные в своих произведениях, – суть для M. М. не только (и не столько) особые (к тому же и внутри себя индивидуализируемые) неделимые формы-события, сколько, – осмелюсь обобщить, – данные для его «экспериментальной психологии» или аналитики сознания, их архитектоническое различие, собственная содержательность, культурный смысл, уникальность теряют значение перед идеей – научной по сути – неких общих законов сознательной жизни и ее состояний. Между тем, если такой анализ находит, что элементами этой жизни являются некие пра-философия, прото-поэзия etc., то выполняться она может только в полноте произведения, то есть в одновременном обращении неопределенного сознания в определенное искусство автора (см. подробнее в разделе «Произведение»).
6) Авторство и героика начинания оказываются свойственными всей ткани сознательной жизни во всех ее узлах и элементарных актах. В полном согласии с Прустом (если судить по приводимым цитатам) M. М. не устает на протяжении всей книги на разные лады варьировать тему творческого характера восприятия, впечатления, переживания. Их момент незаметен, мимолетен и безнадежно теряется во времени или в инерции привычек, если не воссоздается, их полнота и первозданность обусловлены воссозданием «в непрерывно длящемся настоящем» (с. 115).
«…Живая реальность, – цитирует он Пруста, – существует для нас лишь в той мере, в какой мы воссоздали ее нашей мыслью» (с. 125).
Возьмем, к примеру, самое, казалось бы, пассивное состояние: впечатление. Но нечто, могущее произвести на меня впечатление, не может, однако, произвести меня, способного испытать это впечатление.
«Даже поняв, что такое свет, мы не сможем понять, почему он произвел впечатление на человека» (с. 442).
Чтобы испытать, мы сами должны произвести. Затратить себя, проделать какую-то особую работу. Каждое произведение искусства требует от восприятия не меньшего искусства. Я – возможный, только возможный – зритель зрелищ, слушатель голосов, читатель текстов (светских или сакральных) могу оказаться в состоянии соответствующего внимания, если сумею некоторым образом воспроизвести работу автора. Отказ от такой работы и есть причина нашего непонимания, хуже того, – «идейного» почитания или отвержения. Только в таком вос-произведении вместе со мной впечатление на деле производится. Вещи, вспомним, взывают ко мне, чтобы я дал им быть: производить впечатление, бросаться в глаза, привлекать внимание. захватывать мысль.
«…Книга ли, полет птицы или Альбертина – становятся живой частью нашей души в той мере, в какой мы в точке восприятия можем воссоздать себя как автора восприятия и тем самым включиться в бесконечную длительность творческого акта» (с. 385).
То же самое и с нашими, человеческими, вещами.
«…Истина, красота, добродетель и так далее существуют в той мере, в какой они в каждый данный момент питаются и непрерывно воспроизводятся возрождаемым и непрерывно заново проделываемым усилием (…) Волна усилия несет существование чего-то во времени и в длительности, но мы, будучи ограниченными психическими существами, видим длительность и не видим поддерживающую ее волну» (с. 318).
Ничто не завоевывается, не устанавливается раз и навсегда. То, что призвано быть «устоями» жизни, ниоткуда «естественно» не следует, эти устои коренятся в ноуменальной свободе, а не в физической или метафизической «природе» (M. М. очевидным образом опирается здесь на Канта), на них нельзя полагаться, потому что они сами держатся ежемгновенным героическим воссозданием, успех которого не гарантирован. Об этом-де и твердили такие нравственно чуткие люди, как Ницше и Достоевский.
«Вся проблема героев Достоевского состоит в том, чтобы нечто, – что принято, что красиво, что добро, – выросло из меня самого. Только тогда я могу это принять, в отличие от состояния человека без корней. А корни, как и полагается корням, уходят в темноту. В ту темноту, которая у каждого своя, невидимая другим» (с. 173).
(Не упущу вновь подчеркнуть здесь не только слово «своя», но и слово «каждого», иного, от-личного). Но что же исполняет такие состояния вполне? Что за усилие позволяет им длиться и пребывать в настоящем, в вечном настоящем?
7) Стоит особо отметить, что воссоздание как начинание есть непрерывное или постоянно воспроизводящееся воссоздание. Одна из излюбленных тем M. М. в истолковании Декарта – тема непрерывного творения мира как того же самого [18] (см. с. 475).
8) Наиболее парадоксальная черта авторского присутствия в мире та, что только работа воссоздающего воображения или понимания (производящая одновременно и автора воссоздания), работа, которая «артистическим трудом» (с. 47) приводит в действие «философский элемент», – есть как раз условие открытия реальности. Или, чтобы заострить парадокс: только воображая, выдумывая и сочиняя, мы можем надеяться подойти к невообразимому, невыдумываемому, само-бытному бытию.
«Вся проблема воображения и состоит в том, чтобы воображать существующее, а не отсутствующее. Воображать воспринимаемое» (с. 247). «Природу, как она есть, – цитирует M. М. Пруста, – то есть поэтически» (I, 835).
То есть природа, как мы ее видим, не есть природа, а природа, как она есть, – это та, которая увидена поэтически. Поэзия не добавка к природе; поэтически увидеть значит увидеть так, как есть на самом деле. Или увидеть философски. Здесь термины «философия» и «поэзия» совпадают» (с. 190—191). А какое все же значение для открытия реальности имеет различие философии и поэзии? Более того, различие философий и поэзий? Более того, неделимая единственность автора?
1.3. Случай
Накопившиеся парадоксы можно осветить еще с одной стороны. Особенность того умного места, которое мы обследуем вслед за M. М., в том, что оказаться там можно, вроде бы, только случаем. Оно имеет характер события, происшествия, которое просто имеет (или не имеет) место: так выпало, так случилось быть (das, was der Fallist, – говоря словами Л. Витгенштейна). Здесь не работает ни дедуктивная логика, ни причинная физика, ни целесообразная практика. Нет никакого пути-метода, нет никакого закона, по правилам которого можно было бы открыть врата Закона. Законы и методы здесь локальны, они появляются только тогда, когда все уже произошло, случилось, сложилось. И только так может иметь место смысл.
Пожалуй, в самом деле достойно внимания, что все значимое в осмысленной жизни – от элементарного восприятия до встреч с Музами, до «звуков сладких и молитв» – имеет, так сказать, свой, независимый от моих желаний и волевых усилий, характер, свой норов, может случиться или не случиться, даться или не даться. Имеет характер эпифаний (с. 129—130), чего-то являющегося само собой и вместе с тем требующего искусного труда (ремесла, черновой работы, артистизма, аскезы), чтобы явиться. Поэты ведь без умолку твердят нам, что «божественный глагол» должен сперва коснуться нашего чуткого слуха, что «чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд», что Муза придет, «жестче, чем лихорадка, оттреплет // И опять весь год ни гу-гу».
И о самом M. M. можно было бы просто сказать, пользуясь его любимым оборотом: автор «Лекций о Прусте» это человек, которому случилось попасть в «когитальное состояние сознания» (еще проще – подумать), который пытался разобраться в странностях этого события и показать, как оно внутренне определяет всю «жизнь сознания»: чувство, восприятие, память, воображение, переживание, – поскольку оно происходит не где-то в человеке, а с человеком во всем его существе.
Событие это довольно редкое. Недаром философы издавна замечали, что, собственно, научиться мыслить, философствовать нельзя или по меньшей мере столь же проблематично, как, скажем, научиться писать стихи или быть добродетельным [19]. Знать – дело хлопотное, но при известном усердии общедоступное. Чего только нынче при желании нельзя узнать. Еще проще обзавестись убеждениями, идеями, мировоззрениями (тут и знаний особых не нужно). С мыслью же дело обстоит иначе. Она, как мы слышали, нечто сугубо личное и вместе с тем как-то от нас не зависит, посещает (или не посещает) нас, и это посещение ничем не обеспечивается, оно происходит «вдруг», «внезапно», «случайно». «Мы не можем иметь мысль – желанием ее иметь. Мысль должна случиться» (с. 473). Это ведь не только M. М. не уставал повторять, это мы слышим со времен Платона, если не Гераклита («Многознание уму не научает»). И Аристотель жаловался, что, если божественный ум всегда бодрствует, то нашему это удается лишь время от времени. Причем, каждый раз надо – «без надежды и лени» – все начинать с начала, воссоздавать это начало, потому что мысль – и мир мысли – держится «волной» начинающего, воссоздающего усилия. Какого же усилия, если – случай? Сколько ни глазей по сторонам, ни развешивай уши, сколько ни читай книг, ни обогащай свою память, ни получай информации, сколько ни тужься «умственными способностями», – не добудешь, не извлечешь, не выведешь того, что M. М. вместе со всей философией называет мыслью. (Вот здорово! Чего там потеть, сиди и жди, когда тебя осенит. – Нет, говорит M. М., работай! Только работа эта особого рода. Но об этом чуть позже.)
Не добудешь, потому что первичная мысль (а только о ней речь), во-первых, изначальна, выводить ее неоткуда, во-вторых, требует особого поворота, переворота, обращения всего человеческого существа, в-третьих, как и все безусловно значимое в жизни, обусловлена свободой, в-четвертых, есть мысль, а не мнение, поскольку обладает внутренней принудительностью, непроизвольностью, невыдуманностью, если она случилась, то ее приходится думать.
Нашу добрую душу порой шокируют такие произведения, как «Государство» Платона, «Этика» Спинозы, «Логика» Гегеля, а они сами вот что говорили. Платон: «Это будет высказано, хотя бы меня всего, словно рокочущей волной, обдало насмешками и бесславием» («Государство» 473 с. Пер. А. Н. Егунова); Спиноза: «…Я вовсе не претендую на то, что открыл наилучшую философию, но я знаю, что постигаю истинную» (письмо А. Бургу [20]); Гегель: «Мнение принадлежит мне; оно не есть внутри себя всеобщая, сама по себе сущая мысль. Но философия не содержит в себе мнений, так как не существует философских мнений» [21].
Как же это все сочетается – воображение того, что есть, думание невыдуманного, свобода принудительного, случайность необходимого? То, перед чем ты беспомощен, чего ты не можешь достичь никаким желанием, никаким волевым усилием, и что вместе с тем можешь только ты, что ждет именно тебя, взывает именно к тебе?
M. М. сам бьется над этой загадкой. Посмотрите, как он недоумевает.
«Задумаемся над тем, в какой мере мы можем, если захотим, – взволноваться, если захотим, – любить, понимать (…) Случайность этих явлений нам кажется само собой разумеющейся. Но в действительности в этой видимой случайности или темноте скрываются какие-то законы. С одной стороны, я не могу усилием воли или своим рассудочным желанием вызвать в себе какое-то состояние, а с другой стороны, и предметы не могут вызвать это состояние (…) Как же тогда все происходит? В этой зоне моей беспомощности, когда я не волен и не могу, и мир ничего не может за меня… – Очень просто. Это сделалось. Без меня.» (с. 93 – 94). (Так-таки и просто?) «…Есть вещи, которые нельзя вызвать, и как раз они самые существенные, они случаются, а поэтому должны иметь смысл. «Иметь смысл» – то есть не считаться просто случайностью. (…) Мы не знаем, где, когда и какая определится мысль – и в то же время она случается. И все это должно иметь смысл. Не может быть, чтобы все это было бессмысленно» (с. 541).
«Сделалось. Без меня». …То есть как это, без меня?! А как же авторство, «волна усилия»? Ведь только что мы с Вами убеждали читателя, что никто за меня ни любить, ни петь, ни понимать не может. Может быть, я и сам тут должен «случиться» другим Я (опять парадокс: должен – случиться), из желающего понимать обратиться в понимающего, который не имеет ничего общего с тем, кто желал? Воля мне не помогает, я беспомощен, и вместе с тем я должен работать, рыть, держать, воссоздавать непрерывным усилием. Что же это за работа? Как я со своей беспомощной волей превращаюсь в я-автора, к тому же способного в этом качестве непрерывно воспроизводиться?
Жиль Делёз в книге «Пруст и знаки» (M. М. хорошо знал ее) пишет: «Философской идее «метода» Пруст противопоставлял двоякую идею – «принудительности» и «случая» [22]. Истина зависит от встречи с чем-то, что принуждает нас думать и искать истинное… Именно случайность встречи гарантирует необходимость мысли» [23]. Вообще-то, научный метод тоже требует опоры на принудительность фактов, ищет особые, исключительные случаи, заставляющие думать и передумывать. Он ведь изначально, как философский, есть метод сомнения. Но он методичен внутри себя, всякий случай перерабатывает в правило, открывает за ним закон, встраивающийся во всеобщую систему законов. Здесь же речь о другом. О принципиальной единственности «встречи». Она случайна потому, что единственна, неповторима, неметодологизируема. Это «единица случившегося» (с. 131). Нет метода получить впечатление, влюбиться, сочинить стих, понять (хотя есть метод познания). В этом смысле нет и метода философствования. Положим, ум находит мир умным – связным, цельным, необходимым, вразумительным – «в свете идеи (блага)». Но каким умом или в каком свете (в связях какого мира) искать ему самого себя и свою идею? И каким методом он – ум – вновь и вновь случается тем же самым, ведь мы же не можем бодрствовать непрерывно? И не может ли сам ум случиться другим? Допустим, природа, как она есть «на самом деле», видится поэтически, – но ведь это значит каждый раз, с каждым поэтом по-новому, каким-то единственным и оттого, кажется, случайным образом, нет ведь поэтического метода, некой «поэтичности» вообще.
Когда целый мир – каким-то образом – обретает место, в которое вмещается целиком и полностью, когда, иными словами, восприятие, понимание, разумение каким-то – каждый раз по определению единственным – образом исполняются, это событие неизбежно производит впечатление случайного (даже чудесного) происшествия, поскольку видится в «естественных» связях уже вос-принятого, заранее под-разумеваемого мира. Оно кажется прорывом или вторжением. В этих связях и сцеплениях для него нет оснований, оно вызывается своего рода свободной причинностью. Никогда нет причины философствовать, слагать стихи, любить, к тому же нет недостатка в имитациях, желай и делай, без чудес.
Источник любви не в естественной привлекательности человека и не во мне, будто бы проецирующим на него свое «естественное» влечение, а в чем-то третьем, не присутствующем в этих связях. Красота обитает в картине, есть ее форма, а не качество натуральной модели, которая есть лишь повод, «оказия» для азартной игры художника с материалом, формой и самим собой (ср., например, серию Пикассо «Художник и его модель»). Коллекция философских систем еще не составляет философии, равно как и знакомый с ними человек – не обязательно захватывается живущей в них мыслью. Все это тоже только возможные «оказии» философии. Но если случилось, если некое метафизическое существо, некая бесконечная сила охватила эти конечные вещи и вложилась в них, она обнаруживает всю свою принудительность, хотя в «натуральном» мире принудительность эта выглядит едва ли не прихотью.
Разумеется, мы замечаем, что стучимся во врата третьего мира, где обитают существа, стряхнувшие плоть ради имени с большой буквы: Истина, Красота, Добро, Любовь… И вся классическая метафизика нам откликается: идеи Платона (о котором M. М. собирался тоже читать), «Любовь, что движет Солнце и светила», субстанциальные формы схоластов, метафизические атомы Лейбница etc. Отсюда же и «богини времени», «пафосы» или «верования» Пруста. Вместе с тем, мы знаем, метафизическое удвоение мира M. М. отвергает. Именно благонамеренными надеждами на «потом» и на «там» человек успешней всего отделывается от муки «метафизической потребности», чтобы избыть, провести (обмануть) и, пожалуй, забыть жизнь и время теперь и тут. Все это-де – случайно, преходяще, «все, кружась, исчезает во мгле». Но антиметафизический «догмат» феноменологии (и M. М.) гласит: если что-то «метафизическое» вообще имеет место, то имеет оно это место только тут-теперь-так, если оно происходит, случается фактически. Фактичность (случайность) «тут-теперь-так» сама имеет метафизическое значение.
Чтобы не редуцировать на платонистский манер Альбертину к метафизической «богине времени», – ведь Альбертина есть лишь «модель», оказия, случай, ничем не отличающийся от других [24], – M. М. и вводит понятие «метафизического апостериори», о котором мы поговорим позже (раздел «Символ»).
2. Произведение
Признаемся, наша попытка понять опыт или событие, о которых говорит M. М., все еще страдает неясностью. Его место оказывается в самом деле трудно уловимым. Оно располагается где-то на границах между «психикой», «жизнью», «текстом», «пониманием»; между искусством, философией, метафизикой, психологией, чуть ли не физикой; между эпохами, культурами, конфессиями… Причем границы эти нигде не сказываются, они как бы полностью проницаемы. Нам говорится о каких-то переживаниях, состояниях, усилиях, неведомо как осуществимых или хотя бы уловимых…
Все это, пожалуй, так и осталось бы висеть в воздухе заманчивого и обманчивого философствования, если бы не одна тема, которая, по-моему, все же позволяет сфокусировать понимание, наполнить его осязаемым содержанием, придать более определенный смысл задевшим нас метафорам, парадоксам, загадкам. Тема, в которой мне легче всего спеться с М. М. и найти поэтому внутренний источник критических вопросов к нему. Это тема произведения [25].
«То, что удерживается или хочет удержаться, отливается в форму произведений, определенных конструкций» (с. 312). «…Материей, на которой мы можем удержаться или которая может нас со-держать, является структура произведения или opera operans, производящее произведение» (с. 336).
Мы уже с разных сторон подходили к этому понятию, и скажу сразу: здесь я и нахожу реальное, вещественное воплощение «умного места», «персонального всеобщего», «события», «встречи», третьего «метафизического существа», «волны усилия». Произведение действительно предполагает своего рода редукцию «окружающего» мира в некую точку, сквозь которую мы входим в мир, «окруженный» произведением. На каком бы пятачке оно ни развертывало свою вселенную (Йокнапатофа Фолкнера – см. с. 115, 131), сколь бы фрагментарно оно ни было (изречение Анаксимандра или «Крестьянские башмаки» Ван Гога), оно являет собой целый мир, присутствующий в полноте присутствующего и участвующего в нем взора, слуха, слова, мысли автора [26]. Это – «единица случившегося». Произведение содержит в себе свой исток, свое начинание, предполагает непрерывное воссоздание, исполнение. Оно требует от нас соавторского восприятия. Оно единственно, дискретно и в этом смысле случайно…
Попробуем же проследить эту тему в вариациях M. М. – тему отнюдь для него не случайную и, может быть, теснее всего связанную с ведущей темой М. Пруста.
Для Пруста, говорит M. М., «солью был не писатель, а произведение. Некоторая невидимая реальность, которая запрашивает произведение, потому что без произведения эту реальность увидеть нельзя. Произведение есть нечто такое, перед лицом чего вместе с читателем и на равных правах с ним автор должен восставать, возрождаться из пепла потерянного времени» (с. 73).
Три, стало быть, существа со-держатся произведением: незримая реальность, читатель и автор, совместно встающие в нем из пепла.
Прежде всего – соль, суть не в писателе, а в самом произведении. Что-то значимое происходит там, не в «натуральном» человеке со свойствами и талантами, а в мире произведения. «Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут // Меня, и жизни ход лишь повторяет их» (Т. Табидзе). «Не писатель» – то есть не «гений», не «творец», не человек, имеющий героическую биографию (таков герой другого романа, романа из серии «Жизнь замечательных людей»), или играющий социальную роль (герой социологических трактовок), или изживающий в письме свою психофизиологию (герой психоаналитических и прочих в этом духе расшифровок), не носитель великих идей и нравственных качеств («поэт в России больше, чем поэт», пророк, совесть нации), – не он выражается в произведении и не соответствующую «реальность» отражает. Такой автор (вместе с такой реальностью) – точнее сказать, такой образ автора, – и редуцируется в произведении, умирает (можно согласиться с Р. Бартом) на его пороге, чтобы возродиться из пепла внутри произведения, в мире произведения (вместе с его реальностью).
«Автором произведения является не эмпирический известный нам Пруст, а тот, кто рождается самим романом или внутри него» (с. 339).
Обратная редукция произведения в жизненный мир, растворение единичного неделимого кристалла произведения в стихии «текстов», «жизни» или «психики» может быть названа редукционистским его расформированием, редукционистской расшифровкой. Сколь бы по-новому ни звучали подобного рода объяснения, их логика остается логикой научного познания. В применении к произведениям искусства, философии – вообще культуры, – беда этой логики одна: свести-то единичное явление к сущностным общим законам, структурам, комплексам или архетипам она сведет, но вот вывести не сможет. Вычитать в «Поисках» упадочную изысканность буржуазного полусвета (на старый лад) или изживание «родовой травмы» (на новый лад), пожалуй, и можно, но вот извлечь из них «Поиски» нельзя. Объясняющее явно беднее. Там нет объясняемого, оно упущено. Читаем ли мы роман Пруста как исторический документ, свидетельствующий о жизни французского буржуазно-аристократического бомонда начала века; как художественно трансформированную автобиографию; как мемуары, отличающиеся тонкой и предельно реалистической наблюдательностью [27]; как симптом психологических комплексов [28], — принципиальной разницы нет. Не умея проникнуть в интимную жизнь произведения, мы норовим проникнуть в интимную жизнь автора или заняться его идеями.
Но разве M. М. не занимается всего лишь «идеями»? Ведь его собственное произведение – не литературоведение, не критика, даже не эстетика. Он философствует. Конечно. Но в центр своего философствования M. M. ставит здесь не идеи Пруста «о мире и человеке», а феномен произведения, точнее говоря, произведение как феномен (можно даже сказать – как феномен феноменов). И он обращается к Прусту, следует за ним, даже «мыслит Прустом» потому, что не без основания находит у него ту же интенцию: увидеть, как жизнь – не выражается, не отражается – впервые исполняется (чувством, смыслом, пониманием, бытием) в произведении. Они вместе видят в произведении не продукт жизни и не объект понимания, а «орган понимания» и даже «орган жизни» (с. 311). Речь идет, разумеется, не о романтической жизни как произведении искусства, а о жизни «перед лицом произведения» (с. 73). Это значит: пытаться чувствовать, переживать, любить, понимать значит замысливать произведение. Поэтому свою исходную точку, свое «место» M. М. характеризует еще так:
«…Мы находимся в точке, где занимаемся вопросом необходимости художественного акта» (с. 280).
Иными словами, задача оборачивается. Дело не в том, чтобы объяснить произведение (искусства, философии, веры…) из жизни, будто бы и без того ясной (на деле же всего лишь из теорий – социологических, психологических, космологических, метафизических), а напротив: впервые начать переживать, осознавать, понимать жизнь, человека, самого себя, мир, само бытие в свете идеи возможного произведения (рождения, творения, из-себя-обретения, воссоздания – из пепла унесенного и ежеминутно минующего времени). По существу ведь именно эта идея, идея самого произведения и есть та незримая реальность (существо из третьего – метафизического – мира), которая схвачена произведением и содержится им.
Мне удобней всего пояснить, что значит жить, видеть, понимать «перед лицом произведения», напомнив знаменитую сократовскую майевтику, искусство рождения мысли. Следует при этом иметь в виду не только «Теэтет», но и «Пир», а именно, речь Диотимы о рождении в красоте [29]. Мысль рождается на свет не только с помощью Сократа-повитухи, она ищет некую прекрасную форму, чтобы в ней зачаться и родиться. То есть не столько Сократ, сколько красота возможного умного произведения держит философский эрос. Оно есть одновременно и то, что движет «как предмет любви», и повитуха, и восприемница, и сама воплощенность сбывшейся мысли. Конечно, поспешу оговориться, такая идея, такой образ мысли особо свойственны античности, но античности не столько бывшей, сколько настоящей.
Мысль существует, когда она существует не «во мне», а в слове, когда она рождается, производится словом и в слово, поскольку она «есть движение выражения, которому выражаемое не предшествует» (с. 324)[30]. Что я думаю, я узнаю от слова. И первый свет, который слово и мысль бросают друг на друга, высвечивает их темноту. Втягиваясь в философскую беседу, вглядываясь в темноту возможного мира, допуская тем самым истине и миру взглянуть на себя, я впервые открываю себя, как собственную темноту, темноту собственной мысли и речи. Слово – условность – слывет, оно словно ничье и приходит мне на язык из слухов. Оно должно быть осмыслено (а мысль – высказана, чтобы не мниться), переосмыслено, преобразовано, раскрыто и порождено из моей личной темноты, невнятицы, небытия, которые в свою очередь должны быть мужественно и самоотверженно раскрыты в свете возможного слова. Степень понимания, степень реальности, сила света, обязаны глубине преодоленной темноты. Причем, не результат, а само это преодоление и образует рождающийся словесный космос (Платон). Отсюда тайна, окутывающая поэтическое или философское произведение, светящаяся тайна красоты или темнота глубокой мудрости (вспомним прозвище Гераклита). Это след и отсвет изначальной темноты. Глубина мысли, говорит M. М. (вместе с Прустом).
«измеряется глубиной того темного пространства, которое пришлось пересечь, чтобы дойти до истины (…) Если не было глубин темноты, из которой мы выходили, и поэтому достигнутая истина не глубока, то отсутствие глубин темноты означает, что эти истины не приходилось «сотворять заново»…» (с. 76).
Чтобы коснуться реального, принудительного, самоначального, путь этот должен быть пройден до конца, то есть до начала, до темноты, которая окутывает начала. Темнота начинания, говорим мы, не просто преодолевается, но входит в произведение. В нем мир рождается здесь и теперь, на моих глазах, заново, из своего начала, сначала (иначе ведь это не мир, не все), то есть из ничто. Здесь та самая граница между бытием и небытием, между молчанием и речью, где и я впервые нахожу себя, прихожу в себя из «жизненного мира», который разделяю с другими, в котором как-то значусь, числюсь, слыву тем-то и тем-то, таким-то и таким-то. Прихожу в мое соразмерное миру одиночество, в мое и только мое никто (см. с. 98). «Ничто» и «никто» здесь одна и та же точка, точка начинания, изначальности: условие (безусловность) бытия изначального – истинного, прекрасного, благого – есть одновременно условие (требование) моего бытия, как бытие – всегда уже бывшее и само-сущее – начинающего: автора или со-автора. Так (если, правда, опять-таки дойти до границ страны M. М) в идее произведения связываются редукция (или сосредоточение мира), индивидуация [31], авторство, – условия бытия личности, исполненные, как видим, такой степенью страдательности, что, по словам Пруста, напоминают «подлинный страшный Суд» (с. 149, 160).
«… Можно даже сказать, – цитирует М.М. Пруста, – что произведение, подобно артезианскому колодцу, подымается настолько высоко, насколько глубоко вниз страдание разрыло наше сердце» (с. 235).
Не стоит поэтому надеяться отыскать в интимной жизни писателя разгадку его произведений. Жизнь произведения превосходит своей откровенной интимностью все, что мы могли бы вычитать в самых сокровенных письмах и дневниках. Подсматривая же в замочную скважину, мы не увидим ничего, кроме собственного непотребства.
В поэтической конструкции жизнь не зашифровывается, не кодируется, скорее уж впервые расшифровывается и начинает переживаться, совершаться. Вспоминая известные слова Я. С. Выготского («Мысль не выражается, а совершается в слове»), можно сказать: душа не выражается в слове стиха, она там-то – в этом теле – и совершается. Мысль (и то самое бытие, до которого, как говорят философы, мысль имеет прямое касательство) не выражается, а совершается в философском произведении. Быть в смысле совершаться, быть-становиться, быть-возникать (заново, из-начально), быть-на-деле, – по-гречески: эн-эрго. Отсюда аристотелевский термин энергия. Увидеть и быть в энергии видения, помыслить и быть в энергии мышления – одно и то же. Нельзя однажды открыть идею и потом только передавать ее по наследству. Идея содержит в себе всю энергию изначального мышления и требует столь же изначального мышления, чтобы быть мыслимой, то есть самой собой. Она – движущее начало, а не движимое имущество. Поэтому философское произведение не излагает идеи, не мыслит за нас, а «дает мыслить» (с. 147). Пользуясь этим понятием, можно сказать так: произведение есть устройство, содержащее энергию (или бытие) первовидения, первослышания, первомышления… В этом смысле оно и определяется M. М. как opera operans, производящее произведение.
Итак, первое, в чем нам помогает идея произведения при чтении «Лекций», это «упаковать» неопределенные «состояния» и «переживания» M. М. в относительно ощутимую форму, дать им предметную определенность. В частности, мы начинаем понимать, откуда берется энергия, сила, которыми совершается то, что не может вызваться ни качествами вещей, ни моим желанием или усилием воли. Среди вещей есть некие устройства, которые содержат такую энергию и из которых я могу ее черпать. Эти устройства суть произведения.
«…Это они, произведения, во мне рождают мысли, а не я сам как эмпирическое, психологическое существо» (с. 313).
Лирическая энергия заключена в поэтических произведениях, энергия мысли – в философских, энергия веры (говорю уже на собственный страх и риск) хранится в храме, в таинствах, в словах литургии, проповеди, исповеди, молитвы. А энергия нравственного поступка или любви, о которой столько наговорено? Кажется, там же, но надо еще подумать.
Теперь обратим внимание на два других момента, отличающих произведение: материя, из которого оно строится – звук, цвет, слово, – оказывается феноменальной материей (с. 306), а форма, которая его охватывает и которая со-держит его энергию, – есть форма внутренняя и растущая [32].
Музыкальный звук не означает нечто, издающее его, он сам есть звучащее существо (см. с. 303—304), тело возможного настроения, ищущего свою душу, и только поэтому изначально поющая (голосовая, ритмическая) душа способна сбыться музыкой. Слово стиха не есть «транзиторный знак» (с. 266), переправляющий наше внимание к тому, о чем оно, и устраняющий свою материальность, как помеху, с нашего пути. Оно, напротив, останавливает внимание на себе, и мир, в который оно вводит, есть его внутренний мир: одновременно и лирическое бытие самой речи (поэты предсуществуют в ней) и речевое (даже голосовое) бытие поэта, осуществляющего – то есть индивидуирующего – это лирическое бытие.
Легко заметить, что форма, формирующая феноменальную материю в произведении, во-первых, не привходит извне, а рождается изнутри нее (слово находится так, как если бы оно было подслушано у слова же) и, во-вторых, не устраняет материю, а напротив, выводит ее на свет во всей звучащей, цветущей, осязаемой материальности. Только поэтому форма произведения способна захватить человека целиком во всей его чувственной, душевной и духовной ткани, устроить его взор, слух, сознание, внимание, мысль так, чтобы направить их на видение, переживание, понимание незримого и, однако, явленного в своем безусловном бытии существа (см. с. 267). Это форма, со-держащая формирующую энергию (forma formans) [33]. Греческая трагедия или скульптура, храмовая икона, роман Пруста или «Бытие и время» М. Хайдеггера не просто изображают, излагают или сообщают что-то, они определенным образом формируют, настраивают и устраивают, пред-усматривают своих зрителей или читателей. Переходя от картины к картине в музее или от книги к книге в некоем однородном пространстве чтения, мы нечасто замечаем, что переходим из мира в мир, что каждый раз здесь требуется своего рода обращение, переход чуть ли не в новую веру. Не только, стало быть, автор рождается вместе с произведением, но и возможный читатель-зритель-слушатель.
Следующий момент. Форма произведения есть внутренняя форма. Бесконечная производящая энергия, которая потенциально содержится внутренней формой произведения, во-первых, сказывается в том, что произведение – при всей своей законченности – способно, однако, как живое существо, к бесконечному внутреннему росту. Эта внутренняя жизнь, произведение производящего (вспомним хлебниковское «и так далее»), в особенности свойственны современным произведениям, которые часто как бы остаются work in progress – «произведением в работе» (с. 337), но здесь лишь обнажается творящая суть любого произведения. Во-вторых, внутренняя форма наполнена той самой темнотой начинания, о которой мы говорили выше. Она содержит и устраивает своего рода пустоту, допускающую и зовущую исполнителя. Она должна быть каждый раз исполнена (или восполнена) моей – читателя, зрителя – участника – живой энергией, которую эта форма вызывает, пробуждает, требует. Отсюда возможность не только вос-создания, вос-произведения, но и роста произведения, насыщения новыми, иными смыслами.
«Пруст создал структуру, и она увеличивается тем, что мы ее понимаем. При этом она остается сама собой, то есть в одном экземпляре, но в нее вливается бесконечность интерпретаций» (с. 267). «Любая интерпретация «Эдипа» есть содержание «Эдипа», но таких интерпретаций множество» (с. 313). «…Как бы вы ни поняли Достоевского – это всегда будет пониманием Достоевского. (…) Это смысл Достоевского пророс в вашу голову, а не вы придумали интерпретации» (с. 337).
Стало быть, внутреннюю форму произведения можно понять как смыслопорождающий источник возможных содержательных истолкований. В таком случае, и собственно авторское содержание оказывается лишь одним из возможных, имеющих определенный смысл истолкований. В каких же взаимоотношениях находятся эти смысловые истолкования?
Тут мы подходим к критической точке.
С одной стороны, M. М. вроде бы договаривает все до конца. Читатель только тогда исполняет замысел произведения, когда выступает как соавтор.
«Обычно мы считаем, что есть текст и есть акт его чтения, а я вам предлагаю другой вариант: текст, который складывается в качестве текста актом его чтения. Самим актом извлечения смысла. (…) Я утверждаю, что понять мысль автора, вступить в контакт с нею значит в точке контакта самому породить мысль, и только породив свою мысль, можно понять мысль другого, а если мы не породили свою мысль, то мы ее не понимаем…» (с. 389). Событие мысли автора случается только вместе с актом моего чтения, это событие есть одновременно co-бытие, одновременное бытие на двух индивидуализированных точках (все это M. М., на той же стр.). Но с другой стороны – две ли это точки (если не больше) или все же одна, одно и то же неделимое состояние, одна и та же «скользкая вершина», на которую философская мысль должна бесконечно «впихивать себя»? (с. 390).
Задумаемся, в самом деле. Культурные смыслы, «незримые существа» становятся зримыми и мыслимыми благодаря тому, что соответствующие им произведения (греческая трагедия или диалог Платона, православная икона или Житие, трактат Декарта или перспективная картина, роман Пруста или симфония Шнитке) своим уникальным устроением уникальным же образом настраивают и устраивают нас (наши зрение, слух, душу, ум). Более того, вместе с этим устроением в нас «прорастают» содержащиеся ими культурные смыслы, те самые «незримые существа», а ведь эти «незримые существа» ноуменально, онтологически разные, едва ли обобщимые в некое однородное «состояние сознания». Но понятые в контексте экспериментальной психологии, или феноменологической аналитики сознания, они открывают, кажется, одно и то же – безначальное, тавтологичное – состояние сознания и одно и то же «божество», для которых Софокл или Данте, Декарт или Пруст, Альбертина или Стермарья лишь оказии, чтобы выделить, «сингуляризировать», «вспучить», превратить в свой символ эти случайные предметы (см. с. 391).
В той самой точке, где мы, казалось, так много приобрели, мы, в таком случае, разом все теряем.
3. Символ
В конце первого раздела мы оставили Альбертину в тот момент, когда она превращалась в «метафизическое апостериори». Что это значит? А то (см. Лекцию 24), что мета-физические («безначальные») силы, структуры, идеи, не зависящие от времени и обстоятельств, априорно формирующие опыт жизни, всегда исполняются, – если исполняются, если мы в них «попадаем», – фактически, тут-теперь-так, в таких-то – случайных – обстоятельствах. В силовом поле неопределенных метафизических «пафосов», «верований», «божеств» (например, любви) факты группируются в «фигурации» (с. 391), приобретающие не свойственные им как фактам избыточные значения. Соединение фактической случайности и априорной непреложности делает ситуацию единственной и необратимой, придает ей роковые черты. Складывается судьба. «Богиня времени» вошла («упаковалась») в Альбертину, срослась с ее телом, сплелась с чертами ее лица и характера, укрылась в тайне ее жизни. Отныне Альбертина стала судьбой Марселя, потому что та же самая априорная форма, – а не психологический выбор – действует в нем самом [34].
M. М. иллюстрирует эту метафизику фактичности простым примером игры, в частности игры в шахматы (с. 391–392, 433). В силовом поле игры, определенном не только формальными правилами, но и индивидуальным искусством игроков, костяные или деревянные фигурки приобретают незримые интенсивности, не только абстрактные значения королей и королев, но и те, что зависят от ситуации, когда пешка порою приобретает значение решающей фигуры, а их конфигурации – силу судьбы. Разница, кажется, лишь в том, что в жизненной игре по метафизическим правилам нам дано сыграть только одну партию или же не сыграть вообще, что автоматически записывается в абсолютный проигрыш («Взгляни – и мимо!»). Правила – по отношению к игре – априорны, безначальны (игра идет по ним, но не с ними) и всегда вложены в сложившуюся ситуацию. Как грамматика языка в речевых высказываниях, они показуются, но сами не высказываются [35].
Я сказал «нам дано сыграть одну партию», но у M. М. это не совсем так. Именно потому, что метафизическое апостериори случайно, оно и может быть транспонировано от случая к случаю. Необратима здесь форма. Оказывается, сама форма любви Марселя кристаллизовалась и сделалась необратимой «по случаю» любви Свана к Одетте (см. с. 402). Более того, эта «архетипическая форма» мигрирует в любовь к Альбертине из детской потребности в поцелуе матери перед сном. «Вот из чего питается любовь к Альбертине, которая, в свою очередь, является формой последующих Любовей…» (с. 481). Все эти серии случаев (с. 483) любви метафизически – или формально – тавтологичны, это формальные аналогии, они корреспондируют друг с другом и метафорически заместимы. Поэтому дурную бесконечность незавершаемых реалий
«прерывает внутренняя структура аналогии, та, которая в совершенно разных предметах производит один и тот же эффект» (с. 315).
Целое мы выхватываем из времени и удерживаем метафорическими связями (отсюда, конечно, и склонность самого M. М. к метафорическому сближению разного). Словом, вырисовывается известная схематика символизма. (А за ней, ясное дело, маячит миф, тема, впрочем, напрочь отсутствующая у M. М. Не стану говорить о нем и я.)
Здесь-то и располагается наша критическая точка. Как же раскрывается феномен в феноменологии M. М. – как произведение или как символ? На мой взгляд, эти два понимания несовместимы друг с другом. И хотя в речи M. М. они тесно переплетаются, незаметно переходят друг в друга – не столько по недосмотру, сколько потому что оба превращения вполне допускаются понятием феномена, – тем не менее, можно заметить здесь и следы их внутреннего противоборства.
Вот M. М. со знанием дела описывает структуру символа.
«Символ есть вещь, состоящая из двух половинок: вещественной половинки, проросшей в объект, то есть чего-то видимого, (…) и того, что проросло в нашу сознательную жизнь. Соединение их и есть понимание» (с. 299).
Причем сознательная жизнь здесь усматривается как «персональный корень» (Пруст) впечатления или вещи. В развертывании этого персонального корня до вещественного присутствия вроде бы и состоит «работа художника» (с. 300). Но если это символ, если произведение (или феномен) поняты как символ, вступает в действие закон ана-логии или метафорической тавтологии, и персональный корень оказывается универсальной структурой сознания (когитальное состояние) или частью универсальной души (не случайно тут возникает тема мистики). Поэт, – цитирует M. М. Пруста, – «обменял свою индивидуальную душу на душу универсальную» (с. 303).
«Потому что понимание – это всегда понимание общего или того, что частица переживаний является в действительности не только моей, но частицей универсальной человеческой души» (с. 184).
Иными словами, персональный корень символа разрешается в универсальное, а персональность вообще отбрасывается в психологическую индивидуальность, ибо что такое, в самом деле, частица универсального?! А между тем, философский элемент, помним мы, замкнут на индивидуальное сознание, всеобщее может мыслиться только лично, понимать, как и умирать, могу только я… Один на один, всё – всем собой, никаких частиц. «Голый человек находится лицом к лицу с голым миром» (с. 286).
Далее. Мы (вместе с вещами) выхватываемся из «автоматического природного режима рассеивания», из неопределенного, безразмерного – пределом, формой произведения (с. 312, ссылка на Пифагора). Мы помним также, что волну воспроизводящего усилия, которым держится все в мире (и я, и сам мир) со-держит, держит на себе форма (с. 264). Но по логике символической универсализации определенные «я» попадают в разряд «натуральных» и вместе с ними редуцируются к нулевому «я», которое поэтому видится безразмерным и неопределенным (апейрон Анаксимандра), причем теперь эта неопределенность вовсе не связывается с «природным режимом рассеивания», а напротив, оказывается истинным Я, «хранителем определенного рода материала сознания». Так все же «формой произведения» или неопределенным «материалом сознания» держимся мы в состоянии присутствия?
«И это же (нулевое. – А. А.) «я» есть «я» поэта или художника (…) некоторый действительный внутренний человек. Но всегда лишь возможный человек. (…) Человек всегда определен, и всегда мы можем сказать: то, что определено, – это не то. А то, что остается неопределенным, – всегда какое-то и всегда никакое, ни одно из каких-либо, но некоторый внутренний универсальный человек» (с. 356).
Универсальный человек или возможность изменения, свойственная живому?
«…Есть некий большой поэт, оттисками (символами. – А. А.) которого являются Гюго, Виньи, Леконт де Лилль, Бодлер. Все они оттиски поэта, который один с самого начала мира. (…) Являются перевоплощениями или метаморфозами одной и той же души. (…) Поэт един с самого начала мира» (с. 357).
И совершенно последовательно на другой странице M. М. вместе с Прустом вспоминает мысль французских символистов конца XIX века о correspondances, «так называемых символических соответствиях или символической перекличке между одним и другим» (с. 358).А поскольку философ, верующий, любящий рождаются в том же универсальном «апейроне» и пронизаны теми же универсальными структурами сознания… Делайте вывод сами.
(Между тем, если уж мы вызвали тени великих греков, – Пифагора и Анаксимандра, – если неприметно втянулись в «полемос» между пределом и беспредельным, стихией и идеей, единым и многим, – нечего надеяться на мифические «метаморфозы», пусть мы и перенесем поле битвы в «поле сознания» или в «феноменологическую материю».)
M. М. чувствует эту трудность и говорит о роковой проблеме «авторского «я», которое само является проблемой, ибо это амальгама многих пластов времени, многих «я» (с. 316). В этой-то «амальгаме» вся трудность, действительно, и заключена. С одной стороны, мы получаем некое сознание вообще, то ли бессубъектное, то ли сознание некоего одного Ego («нулевая субъективность, не имеющая качеств и свойств», с. 351), по отношению к которому все наши «я» (не только психологические, но и авторские) суть лишь участненные оттиски, или органы, или состояния некоего гигантского «сознательного тела» (с. 370). Это, разумеется, не выдумка M. M., а «чистое сознание» феноменологии. Хотя место это могут теперь занимать, например, «структуры». А чаще всего роль бессубъектного субъекта возлагают нынче на язык. С другой же стороны, в нашей амальгаме возникают сложные отношения, раздирающие эту феноменальную материю. В одном месте, разбираясь с субъектом перед лицом феноменальной материи, M. М., мне кажется, острее всего передает мучительную многосмысленность этой проблемы:
«С такими явлениями мы вступаем в область коммуникации ума с умом, «я» с «я» (причем не с другим «я»). Мы вступаем в область коммуникации ума с умом в том смысле, что между одним и другим есть расстояние (…). В интервале расстояния мы не имеем никаких свойств. (…) В моих свойствах, если они у меня есть, крутится машина, которая мыслит, думает, производит, – а вовсе не какое-то «я». (…) Здесь термин «мой» мы должны фиксировать в интервале между умом и умом. Только в этом интервале существуют феноменальные состояния… (…) Между тем, что для нас совершенно слито: «я» равно °я»… мы не видим никакого расстояния. А в действительности мы должны растащить и двинуться в раздвинутый интервал. (…) Пруст был одним из тех, кто понял, что сознание, слепленное с конструкцией «я», «яйной» конструкцией – есть препятствие. (…) Оказывается, самосознание может быть препятствием, и возникает проблема расцепить его. С чем? С самым дорогим нашим объектом в мире – со своим собственным «я», как субъектом этого сознания» (с. 346 – 348).
Посмотрите, как неуловимо сливаются тут психологические коммуницирующие и умные «я», сливаются и тут же расходятся в умы, расходятся и тут же теряются в интервале, в некой мыслящей машине, которая норовит занять место только что расцепленного с собой «я», растащенного на два «я»…
Еще один оборот тех же мучений. В начале, говорили мы вслед за M. М., присутствует начинание, – героическое, артистическое, интеллектуальное – авторское начинание. В заключительной Лекции M. М. напоминает о риске, эксперименте (даже экспериментальной вере), в которых я только и могу сбыться, помещая себя «в мир в качестве первичного единственного автора того, что существует в мире на уровне воспринимаемого» (с. 532). Тема этой последней лекции: «Произведение искусства как структура искупления». Если немного договорить, получается чрезвычайно сильное утверждение. В произведении искусства поэзии, мысли или веры, творится – в единственном неповторимом экземпляре – мир с человеком (автором) в нем как бы на пробу возможного спасения, во всей красоте, разумности, достоинстве и… тревоге риска, ничем не обеспеченного начинания. Но бессубъектный символ говорит: нет. Мы пребываем в метаморфозах безначального бытия – бытия чистого сознания или феноменальной материи. И когда мне кажется, что я, к примеру, понял мыслителя, пусть и сам творчески подумав его мысль, то это получилось потому, что я ее уже понимал, что мы оба оказались в корреспонденции относительно чего-то одного. «Это оно существует, а не я понял» (с. 387).
Все эти превращения, ускользания, противоречия крайне далеки от простой путаницы или неряшливости мысли. Внимательный читатель усмотрит и за моими недоуменными вопросами и решительными противопоставлениями какую-то противящуюся им силу, сказывающуюся помимо моей собственной слабости. Она, видимо, исходит от начал, до которых мы так и не докопались.
Рискну, однако, закончить определенным предположением.
Можно различить в размышлениях M. М. два полюса. Первый: феноменальное событие, которое ставит во главу своего «метафизического» угла M. М., в котором он видит начало сознательной жизни, есть произведение, или – поскольку речь идет о жизни сознания – бытие в интенции на произведение, бытие перед лицом возможного произведения. Подчеркну, речь идет не о занятиях специальными искусствами, тем более не о жизни как искусстве, а о начале возможной полноты присутствия человека в бытии и бытия в человеке. Смысл присутствует в мире, то есть мир осмысливается, а смысл является – каждый раз единственным, неповторимым, «фактичным» образом – во плоти (феноменальной) произведения. Во втором разделе статьи я попытался наметить кое-какие черты так понятого произведения.
Второй полюс формулируется следующим образом: «Между мной и богиней» [36] – всегда предметы или фигурации» (с. 391). Тогда черты близких людей, имена, местности оказываются случайными, не имеющими собственного значения указателями извечных символических «фигураций». Произведение же, которое воплощает единственное раз-и-навсегда-бытиё вот этого голоса, глаза, чувства, ума, которое обращено к другим столь же лично-уникальным умам и чувствам [37], – устраняется. В силовом поле «метафизической игры» – в бессубъектном промежутке – живут «межеумочные» конфигурации, структуры сознания или символические иероглифы.
Так из страны Мамардашвили намечаются для меня два пути. Один – через произведение – к полноте индивидуации (исторической, культурной, личной), другой – через символ – в ничто, никто, никуда.
- Мераб Мамардашвили. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). Ad Marginem, 1995, 548 с. Цитаты и ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страницы.↑
- Я начинал работу над статьей сразу после конференции, посвященной этой книге. В ушах еще звучали постепенно умолкавшие голоса, отзвуки которых мне кажется полезным сохранить.↑
- Слава Богу, терпимость нашего слуха все же имеет границы: допустив «цветаеведение» или «бахтинологию», он, надеюсь, отвергнет «мамардашвиливедение».↑
- Я говорю о диалогической природе понимания. Всеобщий логико-философский смысл диалогического принципа детально развернут в трудах В. С. Библера, на которые я опираюсь. Затронутая здесь тема подробнее разобрана мною в статье «На полях «Я и Ты» М. Бубера. Попытка вдуматься» – Философия: в поисках онтологии. Самара. 1994, с. 49-74. Тема собеседника не раз возникает и у М.М. Ср., например, «Идея преемственности и философская традиция. Интервью с М.М. Мамардашвили». – Историко-философский ежегодник. 89. М., 1989, с.285-292.↑
- Между тем, М. М. как раз это-то и отрицает: «Когда мы имеем дело со структурами сознания, благодаря которым случается, конституируется философская мысль, то мы имеем дело с состояниями и структурами, которые независимы от предметного языка. Язык может быть разный. В разных культурах он не только разный, но и к тому же меняется. От предметного, объектного языка и интерпретации все это не зависит, поскольку, повторяю, есть некие теоретические структуры мысли (и они самые интересные в истории философии), которые фактически свободны, причем в том числе и от интерпретации их самими изобретателями структур». – См.: Историко-философский ежегодник, с. 288-289. Так возникает идея некой формальной мета-философии, соответствующей некоему исторически-безличному состоянию сознания вообще.↑
- Я тут опираюсь на работу В. С. Биглера «Мышление и сознание» в подготавливаемом к печати сборнике «Психологические предположения Школы диалога культур».↑
- См.: Husserl Ed. Cartesianische Meditatioonen. Eine Einleitung in die Phanomenologie. Hamburg. 1977. S.69, 152, 154.↑
- М. М. движется кругами вновь и вновь возвращаясь к некоторым узловым моментам своих размышлений. Поэтому приводимые мною цитаты то и дело могли бы сопровождаться этим «и др».↑
- Вполне уместно будет вспомнить здесь тезис Л. Витгенштейна: «Мир есть совокупность фактов (der Talsachen, – событий, того, что только и имеет место, случается (может случиться) на деле. – А. А.), а не вещей» (Логико-философский трактат, 1.1). Вещи, стало быть, определяются не свойствами, с которыми они будто бы существуют в мире, а возможностями входить в «положения вещей», как виртуальные события или «факты». Не менее прозрачны и соответствия этой идее в теоретической физике элементарных частиц, в современной исторической мысли (микрореконструкции, case studies) и конечно же в философии (ср. das Ereignis М.Хайдеггера). Так что понятие события как смысловой единицы в самом деле может претендовать на философски значимую всеобщность.↑
- Вспоминая острое словцо Ницше (которое оказалось столь иронически уместным в символистском быту нашего Серебряного века), можно назвать эту бытовую мистику согласием всеобщего подмигивания.↑
- Husserl Ed. Cartesianische Meditationen. S.3.↑
- Тут, видимо, какой-то дефект текста, пропуск.↑
- Должно быть: «…в единых неразделимых явлениях даны одновременно и моральные проблемы (а следовательно, и моральные понятия), и эстетические проблемы (а следовательно – эстетические понятия), и познавательны проблемы (и следовательно – эпистемологические понятия), и метафизические проблемы» – Примеч. Е. Мамардашвили↑
- Действительно, как в мире Анаксагора. Имя Анаксимандра (с.429) здесь – оговорка или опечатка.↑
- «Бессильная красота, – напомним известные слова Гегеля, – ненавидит рассудок, потому что он от нее требует того, к чему она не способна. Но не та жизнь, которая страшится смерти и только бережет себя от разрушения, а та которая претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа». – Гегель Г. Феноменология духа/Пер. Г. Шпета (Гегель. Соч., т. IV. М., 1959. С.17).↑
- «Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновение, и лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении». – Пастернак Б. Охранная грамота. (Пастернак Б. Собр. соч. в пяти томах. Т. 4. С. 186).↑
- «Мы находимся в точке, где должны говорить о некотором «протовоображении» как начале воображения, некотором «празрении» как начале акта зрения. Потому что необходимость художественного акта в составе мира (не внешнего к его устройству) мы берем на том уровне, когда можем сказать, что он есть начало акта зрения» (с. 281). Ср. феноменологический анализ живописи в кн.: Мерло-Понти М. М. Око и дух. М., 1992.↑
- Мамардашвили М. Картезианские размышления. М., 1993. С.40, 74 и др.↑
- Самое удивительное, что то же самое – нельзя обучить, невозможно обучиться – говорилось и о добродетели: ведь кажется, что без стихов или там философии прожить еще можно, а добродетельным-то всякий человек должен быть. Поэтом – помните? – можно и не быть, но гражданином (нынче, кажется, патриотом) быть обязательно. Разве можно нравственность отпускать на волю случая!? Что нравственность, мы и саму веру хотим вменить в общественную обязанность.↑
- Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 2. С. 638.↑
- Лекции по истории философии. – Гегель. Соч. Т. IX. С. 19.↑
- Le hazard в отличие от «шанса» или «инцидента» означает также «риск».↑
- Deleuze G. Proust et les signes. P., 1970. P. 23.↑
- «…За («мета». – А. А.) предметом («физика». – А. А), который мы любим, всегда стоит какое-то божество, к которому мы в действительности стремимся, хотя нам кажется, что мы стремимся к предмету любви» (с. 355). Мы любим «софийный» предмет, как сказали бы русские метафизики соловьевского толка.↑
- Идея произведения, осмысленная, однако, как средоточие жизни культуры и – глубже – как средоточие внутреннего, онтологически значимого диалога культур, – занимает центральное место в философской логике культуры, развиваемой В. С. Библером. См., например: Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. М., 1991. С.401–402. Может случиться, что, разбирая аналогичную идею M. М, я кое-где домысливаю ее в этом, более мне близком, философском направлении. Однако между произведением-феноменом и произведением, понятом в контексте диалогической онтологии культуры, существует принципиальное различие, которого я тут не касаюсь.↑
- Язык мой говорит о том, что я хотел бы напомнить здесь хайдеггеровский анализ художественного произведения в известной статье «Исток художественного творения». – См.: Heidegger M. Der Ursprung des Kunstwerkes. – В кн.: Heidegger M. Holzwege. Frankfurt am Main. 1963. S. 7 –68. Рус. пер. А. В. Михайлова в кн.: Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 46 – 116.↑
- См., например, недавно переведенную на русский язык книгу: Ревель Ж.-Ф. О Прусте. М., 1995.↑
- Научность редукционистской критики сказывается в том, что текст с самого начала рассматривается ею как свидетельство, показание или симптом, по которым она может диагностировать состояние общества или состояние души, а то и тела пациента и отсюда объяснить симптом, как врач объясняет происхождение выступившей на теле сыпи.↑
- Я благодарен Улдису Тиронсу, моему другу из Риги, за то, что он обратил мое внимание на это.↑
- Ср. также: «Воображение видит в мире то. что держится силой слова или индукцией структуры словесной компоновки» (с. 289); «…То. что Пруст называет «живым потоком» (…), – есть такого типа рождения. Рождения внутри формы – вечная жизнь в воображении, которое видит то, что держится и живет силой Слова» (с. 295); «Всю философию Пруста можно выразить так: родиться еще раз так, чтобы тот, кто родился, родился бы из Слова» (с. 311).↑
- «На точке выхода из моей темноты и, следовательно, видения первым светом, когда размеры столба первого света равны скрытым размерам предшествующей темноты, вот на этой точке выхода и расположена точка индивидуации» (с. 91).↑
- Уместно, может быть, напомнить, что мы занимаемся не эстетикой. Произведение – существующее как вещь среди вещей, вполне предметно, материально, – рассматривается здесь одновременно как «орган жизни», как начало человеческого бытия в его отношении к самому бытию, иными словами, в горизонте онтологии.↑
- «…Готический храм есть живая форма – она внутри себя рождает то, формой чего является»↑
- Работу такого же «механизма» M. М. часто демонстрирует в этической сфере. Мы надеемся проявить свою добродетель, когда к тому будет подобающий случай, фактические же ситуации кажутся нам слишком случайными, слишком психологически или политически содержательными казусами, это всегда не тот случай. Между тем, кристаллическая структура формального априори именно потому, что она не зависит от случаев, не предполагает особого случая, а требует ответственного (перед ней) деяния здесь-теперь-так (ср. эпизод Лунина в истории декабристов, – с. 260–281).↑
- Разумеется, Л. Витгенштейн вновь оказывается где-то по соседству. В нашем контексте понятней становится его фраза: «Феноменология это грамматика» (Wittgenstein L. Big Typescript, p. 437. – Цит. по статье: Guest G. La Phénoménologie de Wittgenstein, в изд. Heidegger Studies. Berlin, 1991. Vol. 7. P. 53.)↑
- Речь, напомню, идет о прустовском образе «богини времени», о мгновенной увековеченности жизни в полноте ее переживания; к ней-де, а не к ее случайному воплощению, устремлена наша неутолимая любовь.↑
- Книга близкого по духу M. М. французского философа Ж. Делёза «Пруст и знаки», на которую я уже ссылался, с пафосом доказывает, что только в структуре художественного произведения возможно общение в полном — онтологическом — смысле слова. «Что такое сущность, как она раскрывается в произведении искусства? Это различие. Различие предельное и абсолютное. Именно различие образует бытие, которое заставляет нас постигать бытие»(Deleuze J. Op. cit., p. 51). «Нет никакой интерсубъективности, кроме художественной (artistique)» (ibid., p. 53).↑