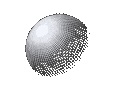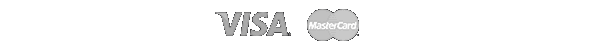«О Мамардашвили, Вийоне, Прусте»
[письмо Дмитрия Рындина (31.03.2014 г.) — написано Ксении Голубович в период ее работы над текстом "Встречи на неизвестной родине" ]
Здравствуйте, Ксения,
Хотел поделиться с Вами некоторыми соображениями, которые могут оказаться полезными для Вашей работы.
Прежде всего, при работе с лекциями о Прусте я наткнулся на одну фразу, написанную Мерабом Константиновичем карандашом на полях и не вошедшую в текст первого издания. Фраза эта касается его понимания надежды, и, как мне кажется, проливает новый свет на эту тему, которой во многом была посвящена работа Вашего учителя Ольги Александровны Седаковой. Как известно, Мераб Константинович не раз выражал согласие с мыслью Чаадаева, что «из трех христианских добродетелей — вера, надежда, любовь — мы, к сожалению, должны отказаться от одной из них, а именно — от надежды». На этом во многом построены соображения Ольги Александровны, и она вступает в полемику с Мерабом Константиновичем относительно его интерпретации Данте, утверждая, что, хотя Мамардашвили приписывает Данте отказ от надежды, у самого Данте этого отказа нет, он, «...как видно из многих изображенных им эпизодов собственного недоумения, начинает понимать вещи в тот момент, когда ставит их в перспективу надежды» («Героика эстетизма»).
Однако, можно предположить, что Мераб Константинович осуществляет отказ от надежды именно для того, чтобы обрести ее вновь. Вот эта фраза на полях расшифровки, которая в новом издании лекций 1981-82 гг. внесена нами в основной текст (она в скобках):
«…за отчаянием, собственно, и начинается другая жизнь; или, на нашем языке, — другой, реальный, срез нашей жизни, то есть другая жизнь, более реальная, чем та, которая является нашей повседневной жизнью. Так вот, дверь этой другой жизни, которая внутри нашей обычной жизни — не где-то там, а внутри, — она открывается за пределом пройденного отчаяния, то есть когда ты ничего не требуешь и не ожидаешь от других Понимание этого есть одновременно отсутствие надежды (надежда может быть только надеждой воскресшей, восставшей из мертвых; а если она не умрет...); и такое понимание лежит, конечно, за точкой предела отчаяния».
Настоящая надежда — надежда воскресшая, вновь обретенная («если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24)). Смею заметить, что, на мой взгляд, такое понимание надежды очень близко именно к евангельскому ее смыслу. Сам Мераб Константинович в том же курсе лекций говорит об этом так: «В христианстве, одной из грамотных религий, единственно допустимая надежда всегда замкнута на Бога, а не на человека или нечто им созданное». Мамардашвили отвергает прежде всего надежду психологическую. Мы должны отказаться от психологии, чтобы вернуть онтологию. В то время как психологический механизм надежды питаем страхом и ленью и представляет собой бесконечное «откладывание на потом» во времени-последовательности, надежда онтологическая есть дар, то, что к нам или приходит или не приходит и от нас не зависит, и обретается она здесь и сейчас, в «неподвижном времени места», не в относительной перспективе будущего, а в абсолютной перспективе вечности-здесь-и-сейчас.
Такое понимание надежды, на первый взгляд, противоречит тому, что мы обычно связываем надежду с будущим. Но это противоречие мнимое, потому что здесь предполагается другое понимание будущего — не как того, что мы можем представить и расположить во времени-последовательности как нечто, лежащее «впереди», а как чего-то иного, нежели любые наши представления. Этой же характеристикой, по Мамардашвили, обладает вообще всякая реальность. Реальность же не располагается в последовательности, с ней мы лишь встречаемся или не встречаемся, и встреча эта имеет или не имеет место — место, границы которого Мераб Константинович и стремится очертить.
Я понимаю это по аналогии с ситуацией Авраама у Кьеркегора в «Страхе и трепете». Все, что может Авраам (Пруст, Мамардашвили etc.) — это создать некий текст (текст в очень широком смысле слова, некоторую форму, не обязательно литературную или философскую, текст искусства или текст поступков), устроенный таким образом, чтобы в нем самом, внутри него могло рождаться событие веры, надежды, любви, понимания (это — к непроизвольности эпифании, ее событийности, внезапности и случайности); все, что может Авраам — это вступить в такое отношение к абсолютному путем держания формы, которое создаст условия возможности события, свершение или не свершение которого не зависит от нашего сознательно-волевого усилия, и которое возможно только посредством формы. В этом смысле именно форма, текст есть «последний», Страшный Суд, только в нем решается судьба. Это парадокс: я ставлю себя в отношение с тем, что от меня не зависит, ставлю себя перед лицом принципиально непонимаемого, очерчивая границу, за которой лежит реальность, бытие, иное, усматривая его в своей собственной темноте, незнании, в полном принятии этой темноты, что, конечно, предполагает риск, ангажированность перед лицом незнания. Это — полное принятие своей конечности перед лицом бесконечного, раскаяние, или, лучше, покаяние (в смысле metanoia, перемены ума), которое может привести (а может и не привести) к обретению надежды и к искуплению.
И в этом смысле ясно и обращение Мераба Константиновича к фигуре Вийона. Чуть ли не основная черта Вийона, насколько я могу судить, это его абсолютная честность и неприкрытость перед лицом мира. Его поэзия всегда — слова приговоренного на эшафоте, его завещание. Предельная ангажированность — ангажированность на краю смерти, и весь текст Мераба Константиновича о Прусте является такого рода текстом, текстом-завещанием, текстом-раскаянием.
Вы точно подметили, что форма текста Мамардашвили — форма внутренняя, выворачивающая вовне пульсацию своего становления и не данная нам как готовая конструкция. Как и саму жизнь, текст Мамардашвили нельзя понять как нечто внешнее, его надо пережить. Такое же отношение у Мераба Константиновича к тексту Пруста — он держит его живым, проживая его в себе. Единственная цель жизни — расширение жизни, ее дление, и текст Мамардашвили продолжает жизнь Пруста. Интересно, что, как заметила А., предполагаемая книга Мераба Константиновича о Прусте, видимо, была замыслена в трех частях, по аналогии с тем, что называется у Пруста реальностью (тройственная реальность). Кстати, сами названия этих частей (1. Реальность души; 2. Живая форма и 3. Исполнение жизни в памяти книги (книга памяти и воскрешения)) могут много дать для понимания замысла Мамардашвили, вкупе с эпиграфами из Вийона, подобранными к этим заголовкам.
Несколько слов об эпиграфах: эпиграф к части первой взят из Вийоновской «Баллады примет», и ключевой фразой тут, на мой взгляд, является фраза «я знаю все, себя не зная». Это — мотив различения между живым и мертвым, реальным и ирреальным. Кто я — в качестве делающего, мыслящего, чувствующего то-то и то-то? Это вопрос (гну свою линию) мысли, чувства, поступка как события, то есть не как неких призрачных эпифеноменов, никак не коммуницирующих с реальностью, а мысли, чувства, поступка как того, что является частью жизни, как того, что меняет ее, как того, что является causa sui, тем, «что в самом себе содержит причины своего случания» («Стрела познания»). Иными словами, я мыслю или поступаю — и поэтому нечто есть, я люблю — и поэтому есть предмет любви. Нечто, что есть самим актом держания формы.
Второй аккорд — живая форма, и эпиграфом к ней выступает «Беседа Вийона со своей душой»; и здесь название Вийоновского текста говорит за себя и выстроено соответственно. Проблема, которую ставит Мераб Константинович — это проблема оживления формы; первоначальная ситуация человека в мире — это, словами Хайдеггера, его заброшенность в готовый мир, мир мертвых форм и готовых, закостеневших значений. Как вместить живое в мертвый мир? Оживить форму путем «вмещения себя в содержание и переосознания содержания на самом себе». То есть в форму нужно вместить себя самого — каким образом? В виде разрыва между мной и мною же, в качестве зазора между «Я» и «Я», зазора между мною-знающим и мною-незнающим, мною уже-всегда-встретившим иное, «упечатлившимся» (в печенье «мадлен» уже упаковалась встреча с реальным) и мною-упустившим, забывшим. В зазоре между этими двумя «Я» возникает стремление «реализовать впечатление», стремление к тому, чтобы событие встречи состоялось. И в этом зазоре — диалог между мной и мной, мной и моей душой. По этому принципу и выстраивается форма, «знающая» о том, что она — только форма, и обращающая взгляд на иное себе. Собственно, речь Мамардашвили и представляет собой постоянное удерживание, сопряжение невозможности понять и выразить бесконечное в конечном, в несовершенных словах, которые всегда есть только слова, — и необходимости, нужды понимания и выражения, что заставляет его снова и снова находить слова, снова и снова отбрасывать их и начинать сначала, что и рождает пульсацию речи и мысли.
И, наконец, последняя часть, «Исполнение жизни в памяти книги», и эпиграф из «Последней баллады Вийона». Надо сказать, что здесь эпиграф самый загадочный, и особенно смущает разительное несходство русских переводов как между собой, так и по отношению к английскому переводу. А. увидела зацепку во фразе из английского перевода, «leaving a rag upon each hedge for the wind to blow», что можно раскрутить. Подсказку нам также подкидывает сам Мераб Константинович, подписав карандашом ниже два имени: Одиссей и Фурье. Возникает фигура странника, ангажированного (как Вийон, Пруст, Одиссей, сам Мамардашвили), растрачивающего себя в страстях (ведь, только потратившись, выстрадав, можно что-то понять), оставляющего лоскуты на каждой изгороди, чтобы их раздувал ветер — чего? — смеем предположить, желания, в котором и заключена жизнь (эротический момент тут явно присутствует: rag — во французском cotillon — также «нижняя юбка»). Не заключается ли исполнение жизни в улавливании этих дуновений ветра желания и раскручивания их посредством формы, в возвращении утраченных «любовей» и оживлении как себя, так и любимых, возводя их в универсальную, божественную любовь в «памяти книги»? В связи с Одиссеем также вспоминаются строчки из стихотворения Осипа Мандельштама, часто цитируемые Мерабом Константиновичем: «И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, // Одиссей возвратился, пространством и временем полный».
Спрашивается: при чем здесь Фурье (сразу скажу, что, к сожалению, с последним я знаком только со слов Мераба Константиновича, у самого руки пока не дошли)? Фурье — социальный утопист, вычисляющий (чуть ли не буквально) такое устройство общества, которое позволяло бы человеку реализовать себя. А под реализацией себя Фурье понимал реализацию человеком себя в максимальном количестве возможных отношений, что отвечает также и взглядам Мераба Константиновича на проблему моногамии и полигамии; полигамии, как Вы понимаете, не в банальном смысле, а именно в смысле реализации себя в максимальном количестве отношений.
(Позволю себе небольшое отступление и несколько, может быть, неожиданную аналогию: в недавнем прекрасном фильме Спайка Джонса «Her» следующая ступень эволюции в понимании любви, недоступная конечному человеку, но открытая неограниченному интеллекту, выглядит именно так: как возможность одновременно испытывать состояние любви, во всей полноте и исключительности, к бесконечному множеству различных людей.)
И в конечном счете, как и жизнь, любовь имеет своей целью только одно — расширение души. Вы, конечно, помните, что Мераб Константинович постоянно воспроизводит мысль Аристотеля о том, что причина любви куда важнее предмета любви. Собственно, «исполнение жизни в памяти книги» представляет собой освобождение от предмета любви и высвобождение самой любви, любви как таковой, и держание ее. Именно это является у него высшей ценностью и единственно достойной задачей, которой подчинены все остальные. И именно поэтому целью является не «понимание Другого», как четко увидела Ольга Александровна, а сохранение и удержание Другого в его «друговости», неустранимой и ни к чему не сводимой инаковости. Поэтому, добавлю напоследок, Другой (эквивалентный у Мераба Константиновича реальности и бытию) как бы и не присутствует в тексте, он апофатически вынесен за его пределы (собственно, как и надежда, о которой мы говорили вначале), как тот, к кому, как Вы прекрасно описали, Мераб Константинович в конечном итоге и обращается. Его речь — предельно личное, интимное обращение ко всем и каждому, когда-либо любимому им (а его душа была достаточно большой, чтобы вместить в себя много «любовей») и, одновременно — ни к кому отдельно, поскольку, как мы уже сказали, любовь сама по себе универсальна и имеет целью и причиной лишь себя саму, она есть causa sui.
Надеюсь, что-либо из этих соображений Вам сможет пригодиться, если что еще придет на ум, напишу,
Всего Вам самого наилучшего,
Дмитрий